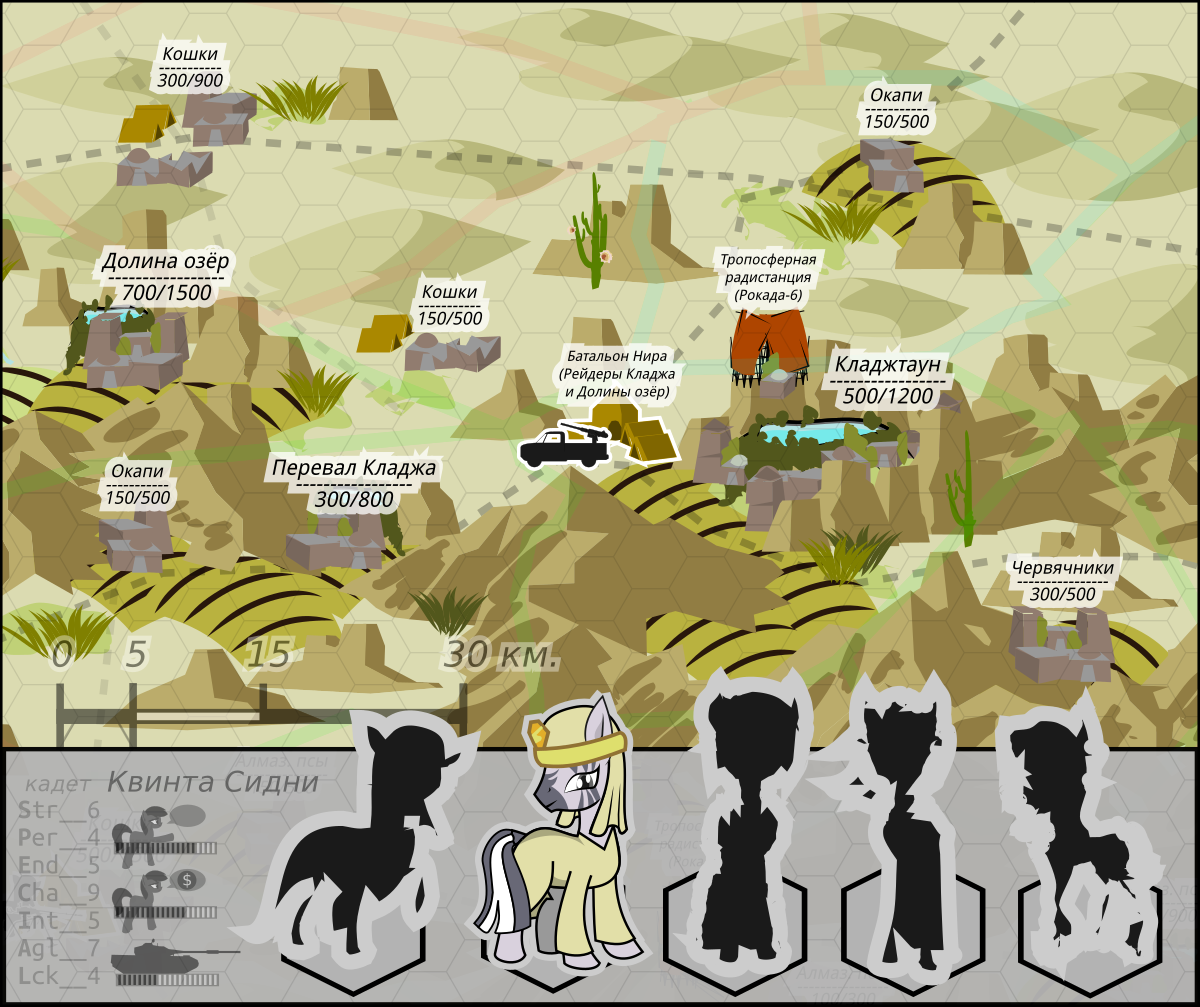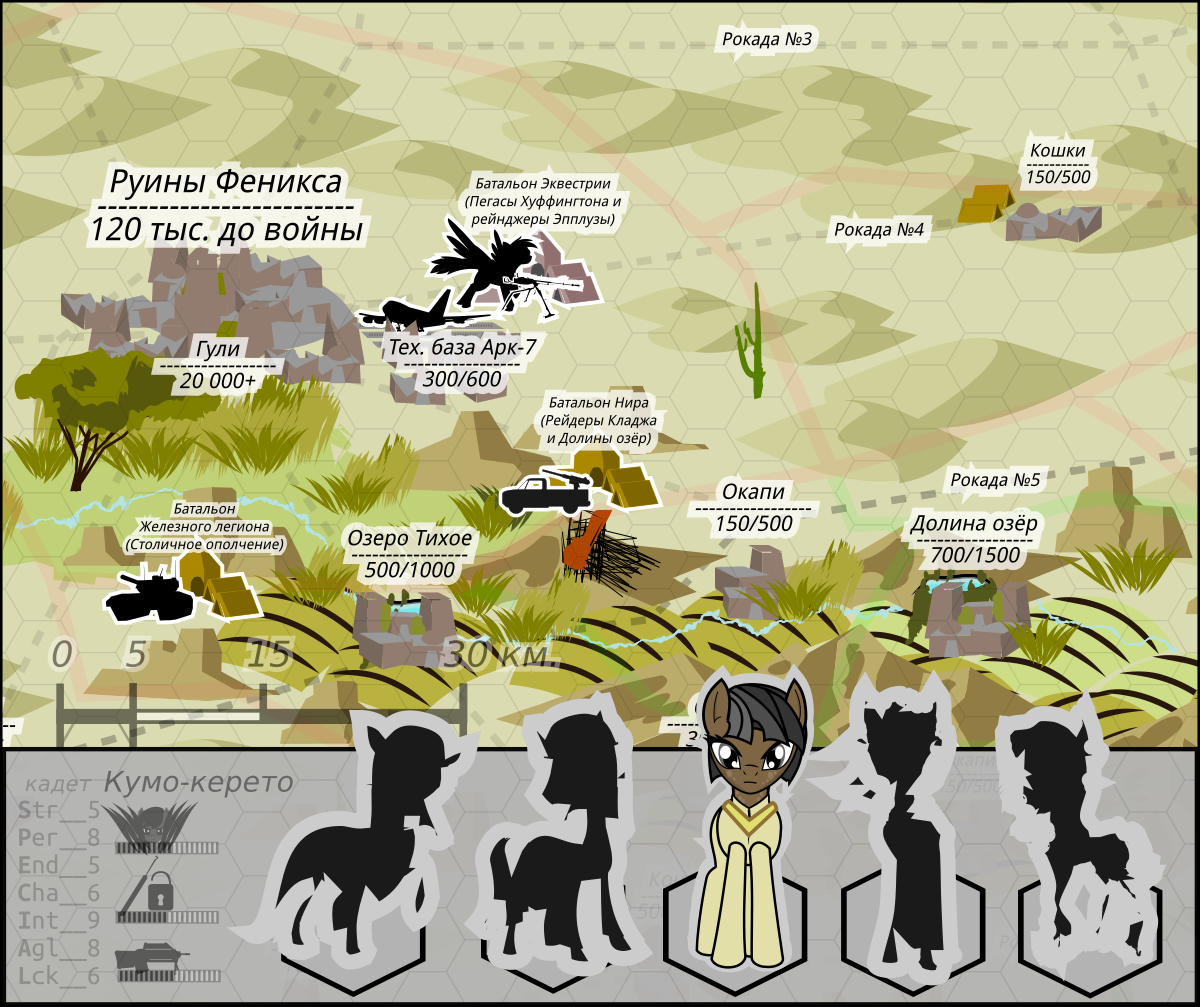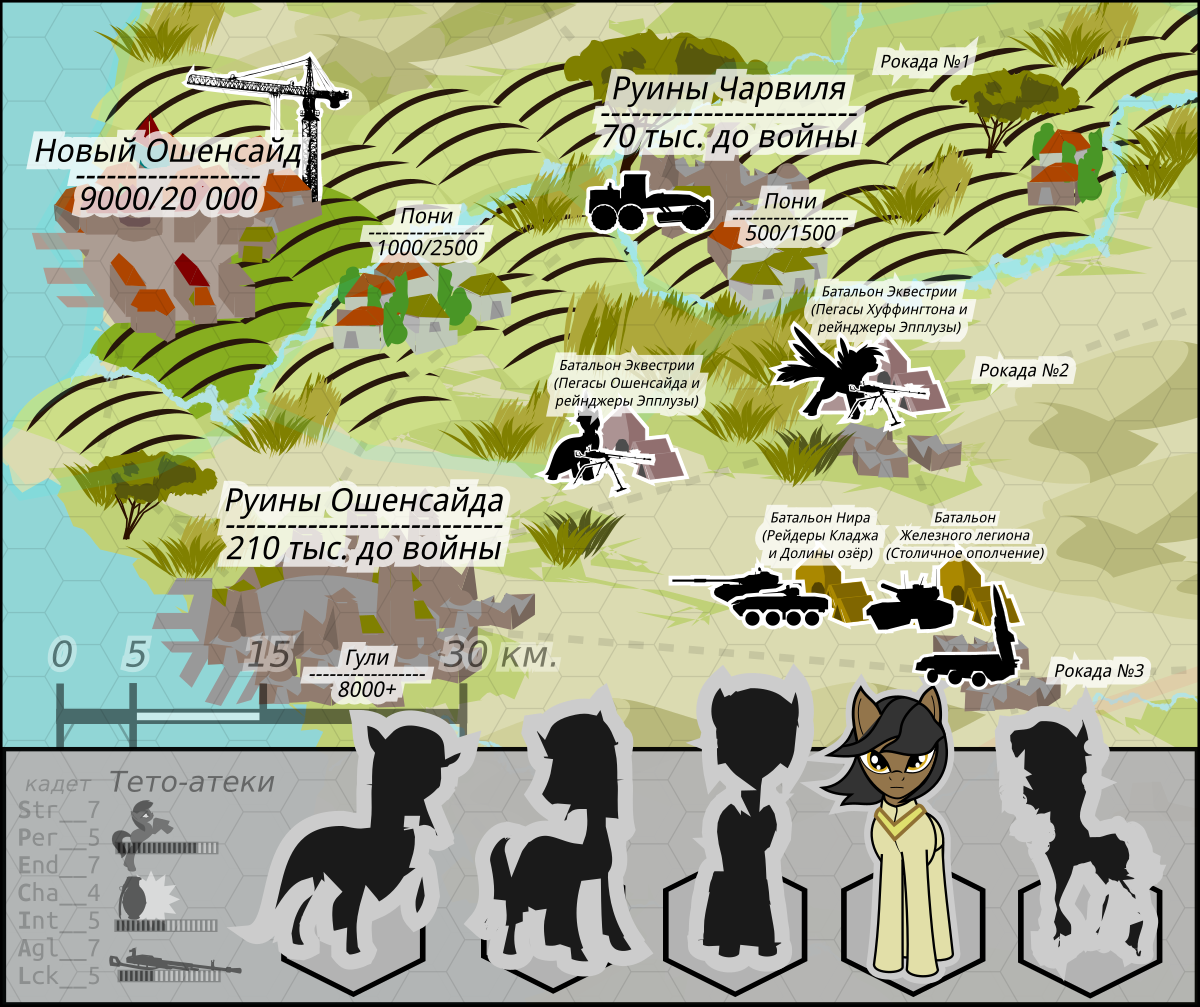Fallout Equestria: Фильмография Пустоши
Глава первая «Поникапи»
* * *
Её звали Джина-алугви. Для друзей просто Джина. Для сестрёнки — Джин. А когда удавалось раздобыть плащ с высоким воротом и большую тростниковую шляпу, можно было представить, будто выглядишь как все.
Иногда ей хотелось этого. Иногда — не очень. Быть как все потрясно. Можно улыбаться другим окапи и слышать их приветствия в ответ; можно веселиться на празднике урожая и объедаться до тошноты, а потом снова; можно даже на секунду поверить — всего лишь на секунду — что если вдруг будет больно, ужасающе больно, сородичи не оставят в беде.
Глупые хотелки. Оставят. Как оставили однажды, когда она жила в большом общинном доме, а потом вдруг проснулась от бьющего в нос дыма и шума пламени. Она бежала тогда; все бежали; а когда оказалась снаружи, не нашла маму в этой шумной полосатой толпе. В тот день она вырвалась и бросилась обратно. Дыша через мокрую грязную тряпку, она закрывала глаза до крика болящей ногой. Она тащила, схватив зубами, а потом и привязав верёвкой к себе. И конечно же кричала из окна, когда отбегала, чтобы отдышаться. «Помогите! Помогите!!! ПОМОГИТЕ!!!» — но никто не пришёл.
И она — тоже.
Струсив, она бросилась вниз. Прокатившись по земле живым факелом, стряхнула пламя. Затем побежала. До фонтана на перекрёстке и дальше, когда мокрая шерсть чуть уняла боль. Всё дальше и дальше по горящим со всех сторон улицам столицы, пока позади не скрылись городские стены, а затем и фиговые пальмы пригородных садов.
Это легко, бежать, когда так страшно и больно. Легко и вылечить ожоги, когда знаешь, что нужно только смешать красную приречную глину и ту пахучую ворсистую траву. И наесться досыта тоже несложно, когда под берегом залива живут мидии, а чуть дальше в деревне можно выломать тростниковую стенку, чтобы набрать сухофруктов полный мешок.
Наконец, совсем несложно убежать от других, когда половина из них отворачиваются, видя чужую — совсем чужую — а мелкие убегают сами, потому что ожоги зажили так, что на себя лучше вовсе не смотреть.
Конечно, это не продолжалось долго. Отловили. Мир не настолько плох, чтобы бросать ничейных жеребят.
Хотя, как посмотреть…
— Мы начинаем торги, добрые господа, мы начинаем торги! Красивые, здоровые, бойкие кобылицы со всего света! Каждому найдётся своя, не жалейте искр!!!
Это Квинта выступала со сцены. Высокая такая, длинноногая, с крутыми спиральными полосками — и орущая так пронзительно, что рыночные жеребчики поджимали уши, а вокруг брусчатого помоста собиралась толпа. Все оглядывались в поисках обещанных кобылок — красивых, здоровых и бойких — но кроме орущей Квинты не находили никого.
— Это так не работает, — буркнула Джин.
— Заткнись! — Квинта обернулась, зыркнув из под очков злющими глазами. — Господа, мы начинаем торги!!!
Ага, бесится. Вот бы её купили! Вот бы забрали в эту проклятую Эквестрию, чтобы сплюнуть и не видеть больше никогда. Потому что такую соседку никому не пожелаешь. Её любят, ей чешут за ушком, её пускают на праздничную кухню. Ей вкусного сколько захочешь, а тебе, мелкая, сухую ячменную лепёшку и объедки со стола.
Джина сидела, теребя дурацкий ошейник, от которого к ноге Квинты тянулась недлинная, но прочная верёвка. Весь путь до базара она её отчаянно грызла, но волокна не поддавались, а потом и вовсе «сестрёнка» дала ей в нос. «Продам тебя нахрен», — она обещала утром и стырила купчую, а поскольку дядюшка Бу снова выдул полную тыкву, некому было дуру остановить.
— Господа! Наш первый лот на сегодня! Джина — необычайно быстроногая, сильная и выносливая, охренеть какая темпераментная. Вечно голодная, жрущая всё подряд, а потом ещё и недовольная. Сука, подлая, себялюбивая, вороватая. Беспородная, а к тому же уродливая как пустынный гуль.
— Это так не работает!
— Заткнись!
Надув губы, Джина отвернулась, пока «сестрёнка» во всех красках расписывает её. Вот зачем всё смешивать? Разве рабынь не полагается хвалить? Ну, или хотя бы вкусно накормить и причесать перед продажей?.. Хрена там, Джин уже не помнила, когда последний раз мыла гриву. Не то, чтобы её не заставляли — заставить-то несложно — другое дело, поймать. К поняхам такую «сестрёнку», лично ей куда больше нравилось общество младших алмазных псов.
Которые, к слову, собрались полюбоваться её унижением. Показывали лапами. Скалились. А самый мелкий перебивая Квинту свистел.
— …Короче, господа, покупайте девчонку из варварского племени. Дочь знахарки и моряка.
— Погодника! — Джин огрызнулась.
— Да пошла ты! Первая цена — пять искр!
Вау! Дорого. Квинтины ракушки у неё купили за четвертинку искры, а колечки и вовсе за медяшки. Но всё равно те десять медных монеток, это, без шуток, десять здоровенных пшеничных пирогов с червяками! Вкуснейших и таких сытных, что половину она с какой-то дури раздала друзьям.
Ага, тем самым, которые теперь зубоскалили в толпе.
— Эй ты! — забасил из толпы кто-то важный.
— Эй, у меня всё честно! — Квинта вытянула свиток. — Плати! Продам!
— Ну кто так торгует? Позорище. Ну-ка повернись, раздвинь ножки и наклонись.
— Аа?..
Жирный плоскомордый пёс оглядывал Квинту, а та, подёргивая ушками, смотрела на него.
— Ну?!
— А, поняла!
За ошейник дёрнуло, подтащило. Джин аж пискнула от неожиданности, когда «сестрёнка» вдруг толкнула её мордой о помост, повернула, а потом и ухватила, зубами на спину оттягивая хвост. Если ещё миг назад Джин корчила рожи щенятам в толпе, то теперь, получается, показывала им зад.
— Базарю, отличная кобылка. Бери, ещё захочешь!
— Хм, зад полосатый. Хороший зад.
— Ага. Настоящая зебра, когда зад наружу, а остальное в короб посадить!
Её подтащило к самому краю помоста, прижало ещё сильнее. Конечно же она попыталась вырваться! Но «сестрёнка» — сука, и попросту связала ей передние копыта под животом. Теперь она стояла в совсем уж дурацкой позе, расставив задние ноги, а чтобы грызть верёвку пришлось просунуть голову под собственный зад.
Жеребчики в толпе хрумкали помидорами.
А Квинта, между тем, ещё унизительнее принялась показывать её тяжело дышащему покупателю, которому даже разрешила пощупать товар. «Хорошие мускулы», — обеими лапами он трогал бёдра. «Хорошие стати», — массировал бока. «И зубы тоже хорошие», — похвалил, когда она, бросив верёвку, вцепилась во вражье запястье, оказавшееся перед лицом.
— …К сожалению, глупая. Гадит где живёт. Беру за четыре.
— Нет уж! Мне надо пять!
Двое заспорили, уткнувшись носами и поминая разом всех богов. И штормозадую гору с юга, и светозарную жопу севера, и даже этих… гиппогрифов, которые всегда платили за жеребёнка честную цену, пока распроклятая Эквестрия не устроила так, что им покупать можно, а всем остальным нельзя.
Монетки, монетки. Почему все думают об одних только монетках? Хотя, вот, помидор ей всё-таки дали. Жирдяй расщедрился, когда сошлись на четырёх и семьдесят пяти.
— Но мне нужно пять… — Квинта едва не плакала.
— Чего так?
— Мама болеет.
— Брешет, — Джина фыркнула. — У неё мамка тоже рабыня. И вообще, она обворовала дядюшку Бу, а потом удрала с моряком…
А вот это было больно, когда одно копыто впечатывается в нос, а второе прижимает холку к помосту. Так больно, что Джин закричала, пока щенки из толпы оттаскивали взбешённую Квинту, а жадный жирдяй принялся сбивать цену до четырёх искорок и пятидесяти пяти монет.
Утро пустынного Кладжтауна начиналось своим чередом.
* * *
Если что, Кладжтауном эту дыру прозвали эквестрийцы. По-южному называли просто Кладжем, а по-кошачьи так мудрёно, что Джин едва язык не сломала, пытаясь повторить. Всякий здесь водился народец: и местный, вроде как мастеровой, который строил летучие корабли для ленивых пони; и прохожий, который нескончаемым потоком тянулся в ту самую Эквестрию, чтобы осесть где-то там под защитой наконец-то объединившихся цветных.
День пути от одной границы, день пути от другой. Мутное озерцо, в котором не разрешалось купаться, а вокруг него две сотни глинобитных хижин, жмущихся к стенкам ущелья. С севера булыжная стена, с юга булыжная стена, а дальше пыльное ничего до самого горизонта.
Скучно, блин. Тааак скучно, что представление на площади уже разбудило весь городок.
Вон три смущённые морды в толпе, это Кроки с братьями — щенята чуть постарше Квинты. Они — друзья. Они тоже сбежали сюда из столицы, а пока жили там, воровали сладости для неё. Вон помидорные окапи, которые долго решали «наша?» «не наша?», а потом всё-таки решили, что не наша, потому что хватало и своих. И вон уже чисто местные белохвостые кошки, которых, когда Кладжтаун строился, выгнали в пески.
— Что за шум, господа? — глав-кошка выскочила из своего паланкина, настороженно оглядывая толпу.
— …А я не могу отдать её за пять сорок пять! — тем временем упрямилась Квинта. — Это моя рабыня! Не папина, а моя! У меня кроме этой дуры ничего нет!
— Я о том и говорю. Не нужна она тебе, да и не тянете вы с отцом этого недокормыша. Пользы от неё нет. Лжёт. Пиздит. Ворует. Да и нам такая-то не особенно нужна. Но жопа… хорошая. Стыдно смотреть, как без толку бегает вокруг.
Двое оглянулись на неё. Нахмурились. Фыркнули. Снова уставились друг на друга. Эта сальная гора, жирующая на чужом труде, которую для простоты все называли Жирдяем, и крошечная на его фоне тонконогая кобылица, которую звали Квинтой — то есть пятой по счёту дочерью в семье.
— А может мне продадите? — кошка предложила. — Дам десять искр.
…
— Вот вы, хвостатые, ещё ничего, — жирный пёс навис теперь и над кошкой. — Но вы свои желания сдерживайте. Сдерживайте! Желания до добра не доведут.
— Пятнадцать искр!
С коротким «гм» Квинта поморщилась, сверкнув очками, а Жирдяй надулся как кузнечный мех.
— Пятнадцать искр тебе, красавица. И пять искр для нашего славного мэра. Искры должны работать, я всем говорю!
Белая пушистая кошка белозубо улыбалась, а её столь же зубастые товарищи настороженно оглядывались вокруг. Это называлось — соседи. Те соседи, из-за которых путники пропадают. И те соседи, которые пропадают сами, потому что мало кто отделывался отрубленным хвостом.
— Вы слышали это, друзья? — Жирдяй обернулся к толпе. — Двадцать искр, вот цена за жизнь нашего товарища!
Вот и остались от кошки рожки да ножки. Но прежде чем свершилось великое кошачье визжание, сама пушистая заскочила на помост.
— Стойте! Мы не съедать её задумали! Съедать — глупо. Нас просто штырит от крови, сколько раз повторять! Мы никуда её не заберём! Мы будем брать у неё склянку крови каждую неделю, а вам честно платить за корм для неё. А когда у неё появится жеребёнок, возьмём с той же оплатой немного молока.
Классные соседи, не правда ли?..
— Не появится, — буркнула Квинта.
— То есть?
— Полукровка же.
…
— Тогда больше пяти за неё не дам.
Кошка насупилась. Остальные тоже. И очкастая зебра, и жирный плоскомордый пёс, и жеребчики-окапи из первого ряда — все осуждающе смотрели на неё. В это мгновение верёвка под зубами наконец-то поддалась.
— Разгрызла, — заметил мэр.
— Она специально всё портит, — тихо ответила Квинта.
— Так я и говорю, отдавай за шесть. Я же не для себя эту уродину покупаю. Посадим её в большую медную коробку, сделаем дверку сзади, будем сдавать младшим по две монеты за раз. Так и окупится, и за дурости свои ответит, и сообществу польза. Меньше ревности, меньше семейных склок.
Сообщество возмутилось, что две монеты за раз, это дикость неслыханная. Младшие окапи нахмурились, щенки постарше собрались в свой кружок. Кто-то заметил, что если рабыню можно продать, а свободным нельзя за те же две монеты отдаться, то с обществом что-то глубоко не так. Впрочем, этого кого-то сразу же осадили, а потом и пристыдили, когда мэр принялся пояснять за дружбу, взаимопомощь, и самое главное в любом уважающем себя обществе — честь.
Между тем сама Джин, наконец-то избавившись от верёвки, тихим-тихим шагом отступала к дальней части помоста. Прочь! К драконам! К чертям! Убежать в пустыню и спрятаться, пока не поймают кошки. Вдруг и правда будут кормить и сразу не убьют?
Она уже собиралась броситься бежать, когда вдруг ощутила что-то тёплое и мягкое. За плечи приобняло большое пушистое крыло.
— Эй, Квинта? Так тебя зовут? Мы купим её за двадцать пять.
Невысокая серая кобылица прошла рядом. Она была неприметной в своём пыльнике, голубоглазой и светлогривой. А ещё у неё были большие пепельные крылья, лежащие за спиной.
— Сразу нахрен, — Квинта сказала, едва подняв взгляд.
Но пони, странно улыбаясь, шла прямо на неё.
— Тридцать тоже можно. Или, что уж там, пятьдесят. Этого точно хватит на лекарства маме. У нас планёр рядом, мы можем хоть сейчас отвезти тебя в столицу, чтобы ты сама позаботилась о ней.
— Повторить? Отсюда и нахрен!
Джин затряслась, когда сознание начало проясняться. Это, без шуток, была настоящая пегаска, а она сама стояла под крылом такого же крылатого жеребца.
— Любезные, у нас тут своя атмосфера.
— Дрянная у вас атмосфера. Жеребёнка мы забираем. По-доброму, или как?
Почему она нарывается?.. Странная пони стояла перед настороженно замершей толпой. Её послали — она сделала ещё шаг. Её снова послали — она вновь шагнула. И вдруг Джин осознала, что все смотрят на пони и только на пони, а хватка жеребца на её боках становится сильнее.
Поднялись крылья. Она рванулась вперёд.
— Бей гадов! — заорала Джин, со всей дури лягаясь в грудь жеребца. Оказавшуюся словно из стали. Кираса!
Но удар всё-таки сбил его хватку, а она уже неслась к тем единственным, у кого прямо здесь и сейчас было оружие. К белохвостым кошкам, стало быть.
— Бей мразей! ЛУЧШЕ СМЕРТЬ, ЧЕМ К ЦВЕТНЫМ!!!
Она кричала, сначала единственная, но когда добралась до толпы, с них как будто слетело наваждение. Кто-то из жеребчиков-окапи подхватил её крик, а потом и старшие вознегодовали. Показались револьверы, пращи, ножи. На пегасов кинулись, сгоняя их в небо. А когда те взлетели, ещё долго стреляли им вслед.
— Вообще охренеть, как у себя дома… — Квинта дрожала, обнимая её всей четвёркой копыт.
И сама Джин тоже тряслась в объятиях, бегающим взглядом оглядывая небо, пока на стенах собиралась наконец-то вооружившаяся толпа.
* * *
Знаете, что в пони самое страшное? Они цепкие. Прямо как пустынный репей. Местные окапи бывают упрямыми, псы упёртыми, а белохвостые кошки вообще дикими, когда стоят на своём. Но пони — это уже крайность. Они так вцепятся, что из-за какой-то мелочи могут запросто порушить всё. Сегодня их двое. Завтра четверо. А послезавтра — армия у ворот.
В Кладже боялись пони. Потому что этот Кладж был уже третьим по счёту, и, видимо, не последним из всех.
Уже смеркалось, когда городской совет закончился, а её, виновницу торжества, наконец-то прекратили тыкать лапами в бёдра и таскать зубами за шкирку. Квинта сопела, ругалась, кусалась, а сама Джина просила поесть, или хотя бы попить. Последнее дали — но и то неполную тыкву, а вместо еды горсть сухарей. Мол, не до обеда сейчас.
Проклятые пони.
Её заперли. Заперли из-за этих проклятых пони! И не в нормальной клетке за домом, где можно грызть бамбуковые прутья, чтобы потом поплёвывать через трубочку в копошащуюся на грядках Квинту; а в Старой штольне, где пахло меловой пылью, а вместо Солнца кое-как светился единственный яркосвет.
— Задница. Задница. Подлая задница. Ненавижу тебя.
Ах да, «сестрёнку» заперли вместе с ней.
— А чего не продала кошкам, раз ненавидишь?
— Заткнись!
— Или псам? В отличии от тебя они хотя бы обещали вкусно кормить!
— ЗАТКНИСЬ!!! — Квинта стянула очки.
В нос прилетело. Очень больно, но и сама Джина не осталась в долгу: по чихучей пыли, по острым камешкам и шахтным дощечкам, они покатились сначала в тёмный угол, где Джина вгрызлась во вражий круп до визга, а потом и обратно к двери, где старшая кобылица вдруг оказалась сверху, и как припечатала лбом о нос.
Брызнуло кровью, а потом и слезами, когда копыта прижались к болящей мордочке, а из горла потекли те скулящие звуки, за которые Джина люто ненавидела себя.
— Прости.
— Заткнись! — Джин огрызнулась на названную сестру.
— Прости пожалуйста. Прости. Прости. Прости…
Ну вот, тоже захныкала. Уткнулась в разбитый нос своим разбитым носом, принялась вылизывать лицо. Вылизывание на хлеб не намажешь! Но всё равно было приятно, хотя бы по той простой причине, что самая красивая в Кладже кобылица лижется к той, от кого морщатся даже зубастые плоскомордые псы.
— Прости. Прости. Прости…
Квинта прижала её чуть сильнее и принялась тереться о передние ноги. Лизнула в копыта, которые зачем-то подравнивала точильным камнем каждую неделю, зарылась носом в шерсть на груди. Коричнево-грязная как кирпич шкура, это отстой! Но, вообще, если подкрасить в белый, а на месте ожогов, где шерсть не росла, провести углём чёрные полосы, всё выглядело не так уж погано. Если не считать лица.
Лицо Квинта обещала исправить. Но на редиске с огорода… не судьба.
— Тебя заберут, — она уткнулась мордой о живот.
— Кончай трусить.
— Заберут. Они всех полукровок забирают. Думаешь псы не купятся за полсотни? — Квинта хлюпнула разбитым носом.
— Не купятся!
— …А даже если не купятся, кошки выкрадут и продадут.
— Трусиха.
— А я останусь одна. Папа умрёт, мама умрёт, ты не вернёшься. Я останусь одна…
Иногда «сестрёнку» пробивало на мрачноту, да так, что слёзы по морде, хвост к брюху, копытца кверху. А взгляд далёкий-далёкий, в плывущие по небу редкие перьевые облака. Потом она разводила огонь под тандыром, лепила пустые ячменные лепёшки и варила фруктовую начинку для пирога. Она смотрела на огонь, никого не подпуская, а потом всухомятку, до последней крошки, съедала пирог!
И ладно бы просто съедала. Однажды Джин увидела, как она прячется за их фургончиком с баклажаном в копытах, а потом сблёвывает в навозную яму только что съеденный пирог. На этом всепрощение закончилось. Мелькнули копыта, полосатый круп, снова копыта. И визг грязной сестрёнки из ямы, с которой Джина дралась так, как не дралась ещё никогда.
— Ненавижу, — напомнила Джин.
— Взаимно. Ненавижу всё.
— Я ненавижу больше!
— А давай сбежим?!
— А?!..
Широкими глазищами сестра смотрела на неё сверху. Она дрожала, разбрасывая пыль хвостом.
— Я ненавижу этих сучьих окапи! Я ненавижу папу! Ненавижу мать! Давай сбежим! — Квинта прикусила губу. — Давай стырим казну у мэра, украдём шлюп и свалим отсюда, где нас никто не найдёт!
Разные у неё были шутки. Но эта — особенно дурацкая. За такую не стыдно и копытом в уже разбитый нос. Что Джин и сделала бы в любой другой день, но когда сестрёнка сначала тащит на базар, а потом смотрит такими огромными глазищами — не решилась. Да ну её.
— …Я не могу спасти папу, не могу спасти маму, но я спасу тебя.
Квинта вскочила. Забарабанила обеими копытами о дверь.
— Открывай, Бигби! Дерьма мешок! Открывай!
Там дрых младший из щенков крокиной банды, которому поручили взять самострел и глаз со входа в штольню не спускать. А то вдруг пегасы? Если пегасы, то гавкать так, чтобы во всём Кладже услышали. Таковы правила, это важно! Бывало, что и они с Квинтой сидели с оружием на стене. Тогда было весело. Они стреляли по пустым тыквам с угольками, пускали по ветру хлопковые шарики, а под самое утро жарили на веточке вкусных пустынных сверчков.
— Ты чего?! — щенок наконец-то решился проскулить из-за двери.
— Срочное дело! Лягать какой жизненной важности! Зови Крока, да так зови, чтобы мэр не пронюхал! Я тебе ракушку дам!
— Ракушку?!
— Обещаю!
Щенок с той стороны фыркнул. Застучал своим здоровенным антипегасьим арбалетом. Побежал. Даже видно было, как босые лапы промелькнули у невеликого слухового окна.
— А ты признавайся, злая задница, где мои ракушки прикопала? Я же говорила, как они важны для меня!
Джин отвернулась.
— Говори. Где?
Сказать? Так копытом пригреет, самое меньшее. Сказать, где те две блестящие монеты? А смысл? У Квинты их в том тайнике было столько, что Джин, опасливо оглядываясь, не успела пересчитать их все. Так получилось, что она сначала ракушки взяла, за которые кошка обещала какие-то дикие деньги, а потом только медные колечки, не решившись тратить на рынке серебро.
— Где. Мои. Ракушки? — Квинта шмыгнула носом. — Мы их с мамой собирали. Хочешь, тебе тоже дам одну? Я по одной раздам каждому из наших, кого мы возьмём в команду. Я не жадная. Я могу.
— У кошек.
— Ась?
— У кошек! Серебро в твоём кувшине! Ракушки у кошек! Я продала их! Довольна?! Я есть хотела! Я продала!
Копыто не прилетело. Хлюпая разбитым носом кобылка смотрела на неё, а она в ответ. Размышляя о кошках, о всех прошлых обидах, о щенках с рынка, которых сестра может угостить на день рождения Бигби, а она сама должна выпрашивать у неё даже помидорный медяк.
А другие отворачиваются. Мол, вроде и не чужая, но и кормить жалко, потому что вместо характера — задница, а вокруг уйма своих таких же голодных жеребят.
Красивых жеребят.
* * *
Быть уродиной, это как замкнутый круг. Поначалу ещё неплохо: другие жалеют, заботятся, угощают вкусным. Сестрёнка дружится с соседскими жеребятами, и они, особо не заморачиваясь, принимают их обеих в свой круг. А потом начинаются проблемы.
Окапи не такие уж сволочи, но у них есть своя заморочка — правило помощи и благодарности. Это когда соседский жеребчик просит знакомых кобылок приглядеть за младшей сестрёнкой, а вечером они всей компанией убегают в кусты. А когда у кобылок чешется, они тоже сидят и придумывают, что бы такое попросить. Потому что от помощи отказываться не принято, за помощь принято благодарить.
Теперь представьте, как в эту идиллию влезает уродина-полукровка. «Давай я помогу тебе, а ты меня поцелуешь как сестрёнку?» — и жеребчик как-то смущается. Глазёнки бегают, морда кирпичом. Он что-то лопочет, извиняясь, даёт вкусный помидор. И вдруг вспоминается, как кричала: «Помогите! Помогите! ПОМОГИТЕ!!!» — но все испугались. Никто не пришёл.
— Смотри, мелкая. Делай полоски там, где шерсть не растёт, а где растёт чуть затемняй по краю. Зеркальце бы, я бы показала, но ты должна научиться этому сама.
Квинта красила её, а вернее гримировала. С одной стороны белый как известь порошок, который обесцвечивал шёрстку, с другой стороны пахнущий жжёными травами уголёк. Он елозил и елозил по шкуре, заставляя ёжиться, особенно когда сестра подкрашивала лицо.
— Я не зебра.
— Да-да, ты дурацкая пегая пони-окапи, кончай ёрзать! Или поникапи? О, поникапи, классно звучит!
— Ненавижу…
— Поникапи! Поникапи!
— Гррр!
— Поникапи, ха-ха-ха!
Она бы давно вырвалась! Дала бы в нос! Но остатки той недавно разгрызенной верёвки теперь крепко привязывали передние копыта к задним, а старшая кобылица, затащив её на лавку, сначала возилась с угольком и бёдрами, а теперь притащила большое ведро тёплой до пара воды.
Уже третье по счёту. С первым они до красноты обтирали друг друга щётками, а со вторым до блеска вымыли гривы. И её дурацкую — розовую — которую она всегда красила хной, и шелковисто-чёрную квинтину, что так красиво падала ей на лицо.
— И всё-таки, копытные, что вы там задумали? — хмурый щенок тыкал их лапой. Очень щекотно. А второй лапищей почёсывал свой вздёрнутый бульдожий нос.
Квинта лучезарно улыбнулась.
— То, что тебе с ребятами дико понравится. Ты всем передал?
— Ага. После отбоя будут.
— Значит будем дружиться, Кроки. Теперь стой рядом, а ведро держи над головой.
К началу ночи, когда Крок наконец-то вытряс из папы разрешение, их выпустили из шахты. Дома было пусто, потому что это была щенячья хижина, хорошо спрятанная в утёсе позади Больших скал. В город они решили не возвращаться. Вдруг кошки подкараулят? Пятьдесят искр, это не шутки. Это такое богатство, что небось уже и окапи начинали шептаться между собой.
Псы — исключение. Джин знала их с детства! И в конце концов, трижды разбив сестрёнкин нос, таки подружила с ними недоверчивую Квинту. Потому что пусть сто раз они зубастые и всеядные, зато не предают своих. И какую бы награду не объявили за её голову, эти — не продадут.
— Смотрите, ребята, — Квинта притащила пару длинных резиновых трубок. — Нам нужно ведро тёплой кипячёной воды. В воду добавить гвоздичное масло, оно смягчает и обезболивает. Пяти ложек хватит, оно очень дорогое…
Джин фыркнула.
— Ты можешь хоть раз не перебивать?
— Возьми кунжутное и двадцать капель сока аханты ворсистой.
— А?
— Свежего сока! Это важно. У нас здесь куст под забором растёт.
Сестрёнка поглядела на неё, почесала лоб, натянула очки, да и убежала. Вскоре снаружи послышалось айканье, и треск с корнем выдираемой сорной травы.
— Так что она там задумала? Мол, сначала праздник, а потом разговор о делах. Это на неё не похоже, — щенок спросил шёпотом, щекотно поглаживая живот.
Чесался он замечательно. Когтистая лапа в сравнении с собственными зубами и копытцами Квинты, это небо и земля. А ожоги чешутся. Они, суки такие, всегда чешутся, потому что пыльно, сухо, Солнце палит. Мама сказала бы делать травяные ванны с купырём и кипреем, а потом смазывать оливковым маслом. Но здесь не было оливкового масла. Даже оливы здесь не росли!
— Не отмалчивайся, Джин.
— Устроим вечеринку на заднем дворе, — она ухмыльнулась.
— А?
— Будем белить тёмные пещеры.
— Аа?
— Пустим УДАВА в кроличью нору. Прочистим ДЫМОХОД!
Эти алмазные псы такие забавные, когда смущаются. О, она обожала его алую морду! Ткни носом в бок, уже краснеет. Чмокни в губы — шарахается назад. Не потому что страшная. «Шрамы украшают!» — как же клёво сказано! А потому что в остальном у алмазных псов всё не как у других.
Вот, например, если вечером Квинта убегает с огорода, то это оно самое. Тыкаться. А если щенок убегает, то значит будет сидеть здесь, пускать дымные колечки трубкой, а потом в отчаянии выть на луну. Потому что щенки отдельно, сучки отдельно, а вместе им почему-то нельзя.
В итоге одни собираются стаей, чтобы гоняться за кобылами. Кобылы с вилами за ними. А потом ещё мэр, который пытается что-то исправить, да так неловко, что охреневают все.
Добро пожаловать в Кладжтаун, добрые господа!
— Ну признайся! Тебе ведь хочется пробить стержнем власти непокорённые глубины! Прогуляться по извилистой улочке? Провести караван в шахтёрский городок?
— Джин, ЭТО не помогает! — Квинта вернулась с кустиком в зубах. Сплюнула. — Это охренеть как не помогает. Не играй перед друзьями в развратную суку. Им скромность нравится. А ты — скромняха до кончика хвоста.
Кто бы говорил. Ко-ко-ко, ты задница подлая! Ко-ко-ко, воровать нельзя, объедаться нельзя, бить носы нельзя! А там, между тем, слухи ходят, что другая худощавая задница в большом почёте у псов. Мол, у пьянчуги Бу дочка совсем от копыт отбилась. Мол, вся в матушку, яблоко от яблони недалеко падает. Мол, к поняхам такую породу, ни один хороший жеребчик к такой и не пойдёт.
Ну как после такого не вмазать? А потом все тухлые помидоры на неё.
Это нечестно, когда красивая лезет к старшим, и всё-то у неё получается, а мелочь со шрамами сидит на утёсе и смотрит, как друзья убегают от очередного табуна разъярённых кобыл. Она тоже может ткнуться носом в щёку, лизнуть, обнять и прижаться. Но почему когда это делает сестрёнка, все понимают всё правильно? А когда она, то только обнимают и дают погрызть орешки, ну, или как сегодня, вкусный червячный пирог.
Жалко что ли? У пчёлки — жалко. А она… просто страшно завидует другим.
— Гляди, Кроки, — Джин сцедила капельки обезболивающего в воду. — Если мы вдруг чем потравимся, то спасение кобылы от колик делается вот так.
Ведро повыше, кобылку пониже. Копытца кверху, а хвост, чтобы не ёрзал, чем-нибудь прижать. Потом трубка, хорошо смазанная маслом, которую гораздо удобнее запихнуть лапой, чем зубами. Глубоко запихнуть, очень глубоко, до шарика утолщения и чуточку дальше. А потом просто сидеть, похрустывая жареными сверчками, и дивиться, как кобылки надуваются, а наверху пустеет весьма немалое ведро.
Давление водяного столба — великая сила! Так даже мельницы работали, и разве что у них здесь на шахте приходилось бегать в большом скрипучем колесе.
— А вообще, это приятно, — Квинта рядом потянулась, тыкаясь очкастой мордой о плечо. — Только чуть холодит.
Ну вот как ей объяснить назначение настоящих обезболивающих? Настоящей медицины, со знанием которой совсем мелкая кобылица, с помощью глины, лесных трав и собственного визга может залечить ожоги, которые убили бы сотню бестолковых квинт?
Свежая аханта ворсистая чуть дурманила, но с двадцати капель любая боль должна была начисто уйти.
* * *
Они обнимались. Чистые до скрипа, внутри и снаружи; чуть приложившиеся к тыкве для храбрости, и чуть мажущиеся углём от подкрашенных полос. Нашлось мутноватое бронзовое зеркальце, где Джина долго разглядывала себя, крутясь в свете притушенного яркосвета и зажимая в зубах кисточку хвоста.
— Скажи, Кроки, красивая ведь, красивая? — она улыбалась, представляя себя настоящей зеброй, танцующей в темноте.
Не окапи, не пони, а именно зеброй! Без тех мерзких пятен голой шелушащейся шкуры, которые теперь были присыпаны гримом и раскрашены полосками, так клёво поблёскивающими в тенях.
— Ага, красивая, малявка, — щенок погладил её.
Клыкастый такой, плоскомордый. Подберётся такой в кустах к мелкой окапи, ткнёт когтем в круп, и визгу столько, словно её там вдесятером жарят. А потом пересказывают друг другу у тандыра страшные-престрашные истории, да такие, что Джин поначалу сплёвывала, а потом забила и вообще не водилась с сородичами. Нахуй. Достали. Лучше уж с ребятами посидеть.
— Знаете что, суки… да задрать это всё! — Кроки по-псовому выругался. — И батю с его манёврами, и копытных с совета, и этих ебучих котов! — Лапы легли на бока, крепко обнимая. — Мы никому тебя не отдадим!
— Вот, верно мыслишь! — Квинта прильнула рядом, принялась целовать.
Бывают поцелую верхние. В губы, как можно даже с незнакомцем. С языком, как делают друзья. Потом в грудь и холку, с перебиранием шерсти, как делают любимые для любимых. Джин видела всё это много-много раз. А ещё, прячась среди акаций, она примечала и особенные поцелуи. Когда жеребчик доволен, а кобылка аж утыкается носом ему в яйца, а потом дышит часто-часто, показывая побелевший язык.
Лица кобылок при этом меняются, меняются и жеребцы. Скучно потому что. Хотели вон театр построить, а монеток хватило только на две пантомимы с грифонами и скрипучий брусчатый помост.
Под которым, к слову, тоже тыкались. Потому что тенёчек, да и не мешает никто.
— Джин, не бойся, делай как я.
Она и не боялась. Просто страшно. Страшно взять и прижаться носом о грудь, а потом скользнуть ниже, вдыхая этот странный, но уже такой привычный запах псового пота. Страшно перебирать шерсть зубами и облизывать особенно чувствительные места. Страшно взять в рот и глотать до последней капли, улыбаться и показывать язык… только затем, чтобы однажды увидеть на месте любимого чужое лицо.
— Можно попросить? — Джин прижалась носом, чувствуя сначала крепкие мускулы живота, а потом и упругое, прикрытое мягкой шерстью мошонки яйцо. Второе уже скользко облизывала Квинта, а устроившийся на циновке алмазный пёс жадно смотрел на неё.
— Что такое? — он всё-таки отвлёкся от перебирания квинтиной гривы, когда Джин тоже потянулась вниз от груди.
«Останься со мной», — так бы это прозвучало.
— Ничего. Потом попрошу.
Лекарю нужно быть мудрой. Нужно смотреть, видеть, и честно признавать слабости других.
Квинта пусть и дура, но правильно говорит, что хоть псы, хоть жеребчики, хоть даже кобылки — все одна порода. Всех надо сначала вытрахать досуха, а потом уже разговоры говорить. Иначе глупо как-то получается: сначала просить обещания, а потом, натыкавшись вволю, требовать исполнения, когда все мысли уже о другом. От этого, к слову, почти все ссоры.
Особенно в Кладже, где все вперемешку со всеми, и как-то вынуждены уживаться в невеликом ущелье у единственного на мили озерца.
Джин вытянула язык, а затем, подражая сестрёнке, лизнула в показавшуюся из ножен головку. Большую, красную и довольно пахучую. У псов к гигиене странное отношение. Когда берёшь кувшин, щётку и мыло, урчит, потягивается; а чтобы самому помыться, так нет, лениво. Песком обтереться, тимьяном запах сбить, и ходит довольный — а потом удивляется, откуда все знают, что он полночи кувыркался с кобылкой.
Да потому что, дурья башка, у тебя шерсть по самые лапы липкая, на солнце блестит!
Поначалу Квинта страшно краснела, поджимала уши, ходила не поднимая хвост. А потом забила на бывших подружек. Сами хороши.
— Смотри, как это делается, — она потёрлась носом.
Сестрёнка облизнулась, далеко высунув язык, глубоко вдохнула. Джин ждала, что вот сейчас как насадится по самые яйца, но нет, принялась лизать. Легко и часто, слизывая выступающие на конце члена прозрачные капли, а потом и посасывая, забавно сложив губы трубочкой, но снова неглубоко. Вместо этого она работала копытами: с одной стороны гладким краем и подстриженной шерстистой кисточкой, а с другой стороны стрелкой и пяткой, то чуть мягче, то чуть твёрже скользя по члену вверх и вниз.
А он всё распухал и распухал, уже показывая и такую длину, что лежащей на коврике Квинте пришлось приподняться, и узел в основании, который уже стал не только больше узкого зебринского копытца, но и её некрасивое поникапино копыто рядом смотрелось не таким уж большим.
Между тем сестрёнка даже не думала насаживаться горлом по самые яйца, как делала для других.
— А что вы тормозите, как слоупоки пустынные? — Джин шепнула.
— Хинт, ожидание удовольствия, это то же удовольствие, — подсказал пёс.
Оу, окапи так не делали. У них как-то сразу, сначала обнимашки и поцелуи, а потом кобылка показывает свою крутость, а жеребец свою. Немножко потыкаются, пообнимаются, похрумкают помидорами, а потом снова. Кто больше раз кончит, тот и победил. Зато после игры лежат большой компанией, даже не вынимая, а ты смотришь на них из кустов с мокрым копытцем, и кошки скребут на душе.
А другие будто и не замечают, им и без лишней кобылки хорошо. А ты злишься, злишься, злишься — и в конце концов, по-псовому задрав заднюю ногу мочишься на их пыльники. И плюёшь в их ошалевшие рожи, потому что нахуй таких друзей.
— Сейчас кончит, — Квинта шепнула.
— А? Уже?!..
Хихикнув, сестра отстранилась, а Джин, набрав в грудь побольше воздуха, взяла мокрую головку в рот. Без заглатывания, без глупостей! Она просто взяла, обхватила губами, и как сестра только что принялась часто-часто лизать. Когда самой себе так делаешь, очень приятно. Когда сестрёнке — тоже неплохо, хотя та только однажды уломала её друг дружке полизать.
В тот раз всё закончилось очень больно. Потому что в одной «подлой заднице» ненависти больше, чем похоти, а всякое повидавшая сестрёнка тоже может покусать в ответ.
Этому она известно у кого научилась. Когда острые зубы чуть прикусили шею, Джин даже не вздрогнула. Это знак признания! А когда в рот брызнуло, она большими глотками принялась глотать. Первый глоток — такой солоноватый на вкус. Второй и третий — чуть не подавилась. Четвёртый и пятый — и когтистые лапы на торсе, которые так сжали, что в точках, где на спине она лишилась шерсти, вспыхнула несильная боль.
— Ау, полегче. Смотри! — Джина широко открыла рот, показывая другу язык.
Щенок улыбнулся до ушей.
Квинта тоже белозубо ухмыльнулась рядом, а потом прижалась посильнее и принялась вылизывать лицо.
— Кстати, Джин, знаешь чем псы выгодно отличаются от жеребчиков?
— А?
— Не устают! Вообще, даже когда уже кончают всухую. Я никакая, прошу пощады, а он твёрдый как кол.
А вот это было обидно. Представьте, что есть одна некрасивая кобылка, которой очень нравится знакомый с детства щенок. Она его расчёсывает большим частым гребнем, чистит лапы тростниковой щёточкой, трётся носом о грудь. Иногда невзначай откидывает хвост на спину, показывает свою самую сокровенную кобылкину часть. А ему пофиг. Потому что вытрахался уже досуха, а другая кобылица дрыхнет на тюфяке, обмахивая мокрым хвостом залитые до самых копыт задние ноги.
И делает она это только затем, чтобы щенок рядом не злился, что отцу можно нарушать общие для всех правила, а ему почему-то нельзя.
* * *
Проблема сестрёнки в том, что она меркантильная. Насколько, вообще, расчётливой может быть едва отлюбившая свою первую течку кобылица. Жеребятам она не нравилась, мол, выбирает не по-любви. А псы души в ней не чаяли — по той же, хех, причине. Палочки со сверчками, колечки, блестяшки. «О, Армок, почему эта жадная сучечка не из нашего племени?! О, несправедливый мир!»
Сестрёнка старалась смотреть на это свысока. Получалось плохо.
— Только давай договоримся, — Квинта шептала на ухо разомлевшему щенку. — Не до узла! Дери эту ворюгу до визга, но, лягать, не до узла!..
— Да без проблем.
Сестрёнка пугливая. Клыков боится, когтей боится, ошейника боится. Джин подкрадывалась посмотреть, сначала просто из любопытства, а потом и с копытцем на влажном месте. Потому что красиво. У окапи такого не увидишь, чтобы кобылка и тряслась, и брызгала раз за разом, и пищала на единственной ноте — насаживаемая крепкими лапами, пока не откроется настолько, чтобы большой красный узел тоже скрывался внутри.
Реально большой. Огроменный!
Но сестрёнка жадная. Подманят блестяшкой, и она придержит свою возражалку, пока совсем не выдохнется. Будет ласкаться, облизывать, обхватывать и подмахивать, и часто, очень часто дышать. Потому что, самое забавное, ей стыдно. Стыдно пищать и обрызгивать восторженному псу задние лапы, стыдно вылизывать всё обрызганное, и аж до хныканья стыдно потом возвращаться, прижимая к промежности мокрый липкий хвост.
Потому что сестрёнка гордая. Она хочет, чтобы псы были красивыми полосатыми жеребцами, живущими в её собственном дворце. Ровно в той же мере, как те хотели бы видеть её сучечкой из соседнего племени, которую приведут на большой сучий аукцион. Вот тогда были бы настоящие ставки. Вот тогда в племени Червячников выгребли бы всё до последней искры, а Квинта стала бы главной, потому что у псов самые богатые сучки заправляют всем.
Трагедия, хуль.
— …Джин, ты, вообще, меня слушаешь?
— Неа!
Иногда она воображала сестрёнку большой лопоухой собакой, часто-часто машущей хвостом.
— Сама напрашиваешься, злая задница. Будешь второй!
— А?
Сестрёнка показала ей язык. Через мгновение, после толчка копытом о бок, и Кроки тоже. Ну и сама Джин не осталась в долгу: далеко вытянув язык она почесала кончик уха, обтёрла потный лоб, ухмыльнулась. Друзья долго смотрели на неё.
А потом они поцеловались. Смешно так облизывая друг другу морды, а чуть позже о шеи вытирая мокрые носы. Языки касались один другого, но не до витков, как делают самые крутые на свете окапи, а скорее по-зебрински. Легко, ненавязчиво и очень мокро. Зебры, вообще, мокрые создания — особенно сестрёнка: которая уже скорее не тёрлась, а скользила о влажные крокины бёдра, часто дыша ему в лицо.
Она пахла пляжем. Не этой мерзкой пустыней, а мокрым песком, йодом, солью — и канабисом, терпкой такой травкой из южных лесов. Где довольные полосатые собирают его большими снопами, раскладывают на жарком песке, а что остаётся из старых запасов отправляют сюда в Кладж и дальше в Эквестрию. Чтобы не были такими ебанутыми. Но помогает плохо — пони же.
— Смотри, Джин, это несложно, — нацеловавшись вдоволь, сестрёнка подмигнула ей. — Представь, что позади тебя большой, тёплый и твёрдый баклажан. Он обнимает тебя, притягивает к себе, ласкает когтистой лапой. И вот он мягко касается. Глубже. Ещё немного глубже. Иии… СТОП!
С резким выдохом сестрёнка замерла. Она балансировала задними копытами на бёдрах алмазного пса, а передними удерживалась о его плечи. Чуть оттопырив круп и откинув хвост в сторону, она показывала, как к влажному месту прижимается головка его ствола. Петелька открылась, плавно растущим кольцом обхватывая сужающееся к концу окончание, подмигнул розовый шарик клитора, а прижатый к бедру хвост часто дрожал.
— Авв, — Квинта поёжилась, осторожно поглядывая вниз на себя, а затем продолжила: — Это очень вежливо, когда баклажан не спешит врываться. Это хороший, добрый, нежный баклажан. Нужно только указать ему верное направление, а то если угол неправильный, чертовски больно будет внутри.
— Чего так? — Джин спросила.
— Да узел же!
Казалось бы, для чего придумали обезболивающие? И знает ведь сестрёнка, достаточно только попросить. Но нет, мы будем хныкать в тюфяк, ничего не объясняя. Мы слишком гордые, чтобы быть любимой и любить. Даже если это неидеальная любовь, но, блин, хоть какая-то!
— А теперь ты прижимаешься к нему. Ты знаешь, что даже самые нежные баклажаны не любят долго ждать. Очень важно напрячься до предела. Голени, бёдра, живот, а когда сил уже не останется, плавно опуститься навстречу ему. Оочень плавно.
Джин потянулась копытцем к своему влажному месту. Чуть потёрла себя кромкой, а потом, фыркнув, пристроилась на ковре, чтобы друзья видели самое красивое, а не просто комок неровных полосок и кучу косичек из крашенных хной вьющихся волос.
Только вот они не смотрели. Медленно опускаясь, Квинта часто дышала, её копыта подрагивали на плечах алмазного пса; а он сам сжимал когтями её бока, одной лапой подталкивая, а другой поглаживая показавшийся на животе и поднимающийся всё выше рельеф.
— Смотри. Это только кажется, что он такой широкий и это невозможно. Ширина, это не страшно, — сестрёнка коротко вдохнула, сдувая чёлку. — Гораздо страшнее, это длина. Когда он… касается твоего предела, нужно остановиться. Просто… не давай ему вжиматься прямо в лоно. Просто не давай. Если чуть отклониться, можно ещё немного растянуться… и до узла принять.
Квинта повела крупом, отклоняясь спиной дальше ото пса. Конец члена в её животе проявился массивным выступом, а потом с коротким вдохом она снова прижалась, теперь лишь на ширину копытца не доставая крупом до бёдер алмазного пса. И Джин протянула копыто, чтобы пощупать: сначала со стороны хвоста, заставив сестрёнку ёкнуть, а затем и спереди, цепляя кромкой клитор, а потом и соски, пупок, выступ на животе.
Сестрёнка с непередаваемым выражением зыркнула на неё, но продолжила говорить:
— Вот, ты его обхватываешь. Крепко-крепко, потому что тебе страшно. Но это всего лишь большой и горячий баклажан. Поэтому сделай глубокий вдох, расслабь голени, бёдра, ягодицы. А теперь, когда внутри всё расслабляется, уже сама, по своей воле сильно его обхвати.
Квинта всегда была сильной, но в этот раз Джина аж залюбовалась, насколько та окрепла за единственный год. Мускулы бёдер проступили рельефом, под короткой шерстью живота проявились крепкие жгуты — и выступ скрылся, только силой её мышц затянутый в глубину. С долгим выдохом сестра миновала показавшееся на члене расширение, опустилась на бёдра алмазного пса.
Любовь облагораживает! Ещё недавно они лягались на равных в боксёрскую грушу и гадали на камешках, к кому первая течка раньше придёт. Оказалось, к сестрёнке. В первый день они попробовали лизаться и страшно покусались; на второй день сестра убежала и вернулась хныча; на третий день, закусив губу, убежала снова — а теперь у неё был такой классный, щекой ощутимый рельеф.
— Это не так больно, если делать всё правильно. Ты можешь прижать копыто к животу…
Джина прижала.
— …И почувствовать, как он миновал лоно, а теперь давит на него со стороны. Скоро он возьмёт тебя когтистыми лапами, начнёт насаживать, поднимать и снова насаживать. Ты не сможешь сопротивляться, ты сможешь только прижаться так, чтобы он входил под правильным углом. Чтобы не избивал твою бедную матку, а просто гладил её со стороны и снова гладил, пока не станет реально, без шуток, хорошо…
— Нарекаю тебя мастером алмазных псов.
— А? — сестрёнка широко распахнула глаза.
— Нарекаю. Тебя. Мастером узкой жеребячьей писечки. И высоких как горы могучих алмазных псов!
— Продам. Нахрен продам…
* * *
Это нормально, называть рабовладельца «сестрёнкой»? Пёс знает, но как-то так само получилось: с того самого дня, когда её купили и отдали заботам другой.
В худшие недели, когда раны чесались гораздо страшнее, струпья отрывались, а лёгкие горели — сестра обмывала её на каждой стоянке тёплым отваром, смазывала ранения кисточкой и спала рядом, давая свой спальник, а нередко и обед. «Почему?» — Джина спрашивала. — «Потому что могу», — злилась та в ответ. Здесь в Кладже у них был общий закуток за бамбуковой перегородкой, где места хватало только на одну тумбочку и одну постель. Так получалось, что они с сестрой всегда засыпали вместе: в хорошие дни — обнявшись; в дни разбитых носов — спина к спине. Но порознь как-то не получалось. Снилось ужасное, сон не шёл.
Было одно, очень обидное. В тот день, когда сестра убежала вечером, а под утра вернулась хныча — сама Джин не предложила помощи. Ни двадцать капель обезболивающего с ведёрком и тонкой мягкой трубкой, ни объятия, ни даже чего-нибудь вкусного на обед. Потому что злилась. Укус на крупе мерзко болел. И на следующий день тоже, и потом. Если она злилась, то всерьёз и надолго, а если сестра, то как-то сразу отходила и бормотала своё «прости-прости-прости».
Наверное потому так и получалось, что она сама сливала злость на мелкие гадости, а сестра лишь изредка взрывалась, чтобы потом снова неделями терпеть.
— А кому ты меня продашь? — Джина спросила уже раз в десятый, прижимаясь носом о бок сестрёнки. — Кому продашь? Жирдяю с медной коробкой? Или кошкам, которые обещали вкусно кормить?..
Та не отвечала. В крепких когтистых лапах её тело поднималось, приятно скользя по носу потной шерстью, и опускалось с коротким взбрыкиванием, когда пёс прижимал её к бёдрам и подтягивал на себя. Он держал её на весу, сжав когтями голени, а когда та пыталась опереться на плечи, негромко порыкивал. Мол, нельзя, сучечка, нельзя.
Псам нравится быть главными. Властность — это у них в крови.
— Я знаю, кому ты меня продашь, — Джина прижалась к сестре всем телом, тоже забравшись на бёдра алмазного пса. — Ты продашь меня Жирдяю, а он сделает для меня не коробку, а большую медную кобылицу. В которую меня запихнут целиком. Меня поставят при шахте, и псы с утренним стояком будут отрываться по-полной, а медная кобылица мычать тем особенным звуком вууу-вууу.
— Заткнись! Нахрен продам!..
Красиво-то как простонала. И мокро, очень мокро, короткой струйкой делая влажный член ещё мокрее, а самого пса яростнее. Ведь куда это годится, когда и бёдра мокрые, и торс мокрый, а дурная полосатая, как её не пристрой, всё норовит намочить любимый ковёр.
Джин приткнулась вторым ковриком, попеременно подначивая сестрёнку и слизывая её ручейки. Довольно вкусные. Канабис, вообще, вкусная штука, особенно когда добавить к коржику в большой червячный пирог. Который, к слову, состоит ровно из пяти основных компонентов: тончайшего коржика, томатов, зелени, мягкого сверчкового сыра и толстобоких грибных червяков.
Страшно вкусно. А Квинта брезгует. Мол, безобидную живность не ем.
— Квинт, не отнекивайся. Ты меня продашь. А вечером, когда все вдоволь наиграются с медной кобылицей, Жирдяй вытащит меня полудохлую и заберёт к себе. Я видела, как он тебя натягивал. Слабачка! До половины, а визгу было на весь Кладж. Он натянет меня полностью, хлестая яйцами о круп. Он привяжет меня широкими ремнями, чтобы не вырывалась, и будет жарить прямо перед рацией, чтобы весь мир слышал, кто здесь самый главный, и где место копытных на этой земле.
— Ауууу…
Ехуу! Кончила! Настоящий водопад. Бедный коврик, которому снова в стирку. Бедная сестрёнка, которая большими кусками хватает кислород. И бедный Кроки, который продержался ещё меньше, а на последних фрикциях, когда низ живота сестрёнки уже распух под узлом, просто крепко прижимал её к себе.
Ни капли спермы не просочилось, а сестрёнка выглядела как те кобылицы на рабском рынке, у которых уже шестой месяц и такой далёкий-далёкий взгляд.
— Эмм, а простишь меня за ракушки? — Джин лизнулась, обхватывая языком мокрый-премокрый клитор.
— Нет уж… подлая задница. Ты первая в моём списке обид.
— Продашь? Жирдяю продашь?!
— Слушай сюда, невольница! Если бы у тебя было свидетельство о рождении, я бы ту сучью бумажку давно разорвала!
— Продашь?!
— Никогда. Ты моя поникапи. Я им. Тебя. Не отдам.
Вау! Сильно сказано. Едва не плача крокодильими слезами, они с Кроки обняли сестрёнку. Мол, вот это сучечка — наша сучечка! — эта сучечка ценит дружбу. И как ценит! Вот это выдержка! Вот это дух!
Громко фыркнув, Джин поднялась. Чмокнула сестрёнку в губы. Бёдра были уже мокрыми от собственных соков, в подхвостье чесалось, так что она просто по собачьи пристроилась мордой к полу, а задние ноги расставила как можно шире, показывая себя всю. Идеальная писечка! Розовая, нежная! Она ей так гордилась! Настолько, что однажды ответила отказом предложившему монетку приезжему жеребцу.
Правда потом долго смотрела вслед, переступала с ноги на ногу, морщилась. По-хорошему, за монетку надо было не убегать, а хорошенько вылизать, или быстро вымыться, прибежать потом и наклониться, откидывая хвост на спину и прикрывая щёлку ногой. Монетка же! Червячный пирог!
Короче, это нечестно, когда сестра храбрая, а ты сама — словно пустынный сверчок.
* * *
Ей хотелось этого. Всем хочется, как бы там Квинта не возражала. Всем хочется пищать под своим жеребцом, вырываться и просить пощады, а потом, с особенно громким визгом, улетать далеко далеко. Нет, не к тазику — как у Квинты с вдруг кончившим внутрь жеребчиком; и не домой с заплетающимися ногами, как сестрёнка приползает после ночных алмазных псов. А обнявшись и прижимаясь друг к другу, как делают любимые для любимых и друзья для друзей.
— Эмм… ребята, вы обещали, что я вторая, — устав стоять враскорячку, Джин оглянулась.
Кроки честно попытался снять сестрёнку. Та взвизгнула. Снова попытался, и Квинта вся затряслась.
— Застряла, бедняжка? Маслёнку принести?
Вдумчиво они это обсудили. Оказалось, что маслёнка не помогает — просто не пропихнуть. Помогает только та очень тонкая трубочка, которая осталась дома — и нет, они не отправят младшую в город, полный подлых окапи и жадных до понячьей награды белохвостых котов. Сиди, мол, скучай — мелкая злюка — а мы тут продолжим: постанывая, порыкивая и целуясь, а потом снова кончая, так что сестра тянула уже на седьмой месяц, а то и на восьмой.
Красивая, пухленькая зебра. Кто не любит пухлых зебр?..
— А я видела, Кроки, как она тренируется, — Джин беззаботно болтала, тыкая мокрое пузико сестрёнки то носом, то языком. — Возвращаешься такая с огорода, а она дрожит на нашем общем матрасе, писечкой обхватывая здоровенный баклажан. Внутрь, наружу. Внутрь, наружу. И тужится, вся красная, то выталкивая, то копытом запихивая его поглубже. А потыкаешь носом, отвечает так яростно. Мол: «Разболтаешь — продам! Нахрен продам!»
Сестрёнка застонала, прижатая особенно сильно. Узел не давал ей хорошо подмахивать, но она очень старалась, то поднимаясь чуть выше, аж до скрипа зубов, то чуть ниже, с выдохом опускаясь на мокрые бёдра, а потом скользким кругом по ним — и снова, снова, снова, пока рот не открывался, вываливая широкий зебрячий язык. Тогда Кроки целовал её в губы, а сестрёнка отвечала, едва не вырубаясь совсем.
Частыми каплями она делала мокрый коврик ещё мокрее, хотя большая часть соков, накрепко перекрытая узлом, оставалась внутри. Скоро их ждал такой-то водопад!
— А хочешь, я тебя вылижу? Всё до последней капли проглочу? — Джин улыбалась, показывая длинный и тонкий язык.
— Не… хочу.
— Хочешь. А знаешь, Кроки, какая Квинта поначалу была недотрога? Мол, я новенькая, я городская, я самая красивая. В кусты не хочу, под жеребчика не хочу. Там у нас настоящая война была. Одни такие: «Изнасилуем эту падлу!» А я с другими: «Нож вам в брюхо, а не наша Квинт!» Мы, блин, жопы ради неё рвали, а она взяла да и перебежала к плохим.
Сестрёнка оглянулась с большими, полными слёз глазами.
— Я думала, толпой её отжарят. Хрена там, прибилась к лидеру. Мол, твоя писечка и только твоя, никому не отдавай. Рассказать, что стало после этого с лидером? Как вся банда развалилась, а хороший жеребчик к рейдерам убежал?..
В лицо хлёстко прилетело. Зубы лязгнули, нос обожгло болью. А коснувшись щеки Джин увидела стекающую с копытца кровь.
— Кончай её бесить. Она — твоя семья, — рыкнул пёс.
— Кроки, ты охренел?! — сестрёнка взорвалась.
Мелькнули копыта, лапы, снова копыта. Двое упали. Одна кусаясь, а второй пытаясь прикрыть лицо.
— Нет, всё правильно, — Джин прошептала. — Всё правильно, говорю! — она заорала им.
Слова не помогли: пришлось разнимать. Копытам по морде одной, зубами за лапу другого. Снова копытом и снова зубами, пока запаха крови не стало столько, что охренели все.
Сестра тяжело дышала, прижатая к полу всей массой алмазного пса. Он придавил ей бёдра собственными, а передние ноги сжимал в лапах. Кусучие зубы пару раз клацнули, но вскоре сестрёнка поняла, что снизу до пёсьей шеи не достать, и просто часто задышала. А сам пёс — довольный-довольный — ни на секунду не выходил из сестрёнки во время драки, а теперь покачивался сверху, снова насаживая, насколько позволял узел; а когда Квинта чуть застонала, принялся вылизывать её залитое слезами лицо.
Это помогло. Секс всегда помогает! Ну, кому доступен. А ещё очень помогают объяснения, так что как только сестрёнка снова расслабилась под своим зубастым, тихо запищав, Джин начала говорить.
— Дружище, вообще, ты прав. Я несу чушь, за которую каждый раз получаю. Но это просто нужно мне. Без этого я совсем на говно изойду.
Она штопала себя у бронзового зеркальца, работая с кривыми хирургическими иглами, а заодно прочищала ещё не закрытые раны, обернув кончик языка вокруг ватной палочки, от которой приятно щипало лицо.
— Однажды тебя занесёт не туда, — Кроки ответил спокойно, перетягивая сестрёнку на себя. — Ты вспоминай эти порезы. А если будет совсем паршиво, заходи к нам. Дадим винтовку, сходим вместе в пустыню, кого-нибудь убьём.
Вот-вот, чтобы совсем паршиво не было, она и несёт всякую чушь. Убийства беззащитных котиков, это не про неё. Котиков — жалко. Но прав он, конечно же. Что характер — задница, она уже и не спорит. Хорошие окапи не создают проблем маме и племени. Хороших окапи не продают на рабский рынок. Хороших окапи не обвиняют в грабежах и убийстве, плетью выбивая признание, чтобы в последний раз показав друзей перед казнью, продать за бесценок. Мол, жеребёнок всё таки, жалко добить. И наконец, хорошие окапи не попадают в такую семью, где сестрёнка заботится, несмотря на подлый характер и, поначалу, непонятно за что держащуюся жизнь.
Но иногда хотелось не только заботы, а чтобы ценили. Хоть за что-нибудь. Чтобы друг не отмалчивался, почёсывая шкуру словно домашней зверюшке, а рассказывал о своём псовом, а она улыбалась и давала свой поникапин совет.
* * *
Они с Кроки ещё совсем мелкими знали друг друга. Бегали в гости по широким туннелям столичного бункера, дрались с жеребчиками из трущоб снаружи, вместе ловили сверчков. Когда щенок болел после очередной операции, она кормила его с ложечки и обещала, что всё будет хорошо. И мама обещала тоже — она никогда не лгала.
Когда мама погибла, Жирдяй очень скоро приехал её выручать. Мол, бросай свой рабский рынок, Джина, мы тебя выкупим. Иди к нам! «Нет, не пойду, у нас хорошо!» — «Как в рабстве может быть хорошо, глупая копытная?» — «Хорошо — и всё тут!» И псы под взглядами настороженных окапи удаляются, а она сидит с единственным оставшимся щенком, болтая копытцами над старой заводской галереей.
Тот спрашивает: «Да что с тобой не так?» А она и рассказывает, что, мол, во-первых кормят — невкусно, зато сытно — что ничего от неё не требует. Что в первый же месяц отчаялись продать эту «горелую задницу», а на второй месяц окончательно отъебались, когда у неё появились классные друзья. В тот день она похвасталась ножом, а потом, по-секрету, и револьвером. И Кроки, которому по возрасту ещё не полагалось огнестрельное оружие, просто начисто охренел.
Быть в банде, это потрясно. Опасно, но потрясно. Старшие косо поглядывают, шепчась между собой, мол, эта мелочь — талисман «Горелых», а она носит нож на груди и задорно ухмыляется им в лицо. Приходит вечер, и она на спор съедает шесть тарелок рисовой каши, снова и снова подбегая за добавкой, а кобылка с фартуком подкладывает ей побольше овощей. А ночью она убегает к друзьям, в бараке которых сладко пахнет травкой, жеребцы обнимают кобылок, а её саму ждут благодарные взгляды за пару-другую как нехер делать заштопанных ножевых.
Её обнимают, и она засыпает вместе с другими, стараясь не делать глупостей — вроде как подныривания к жеребчикам в постель. Ребята, может, и не против, но есть такая важная штука, как репутация. С одной стороны живой святыни, которая бросилась за мамой в горящий дом, а с другой стороны кобылок для развлечений, которые только и годятся, чтобы дарить им подарки и сперму спускать. А ей же, напротив, приносят книги, мамины инструменты — большой саквояж откопанных с пепелища вещей. Она плачет у погребального костра рядом с ребятами, а потом возвращается вместе с ними, в первый и, наверное, в последний раз в жизни укурившись до летающих свинок в глазах.
Летят дни, складываясь в недели, а недели в месяцы — меняются лица друзей. Кто-то уходит, найдя новый дом; кто-то бросает всё, разругавшись с остальными; а кто-то — очень хороший — погибает на её копытах, потому что раны тяжёлые, а его ищут, к настоящему врачу ему нельзя. «Горелых» ненавидят, как оказывается, их обвиняют в поджоге, из-за которого весь пригород начисто сгорел. Заводской барак сменяется древним метро города, а шум улиц этой бесячей капающей водой. Они вооружаются, учатся стрелять — а потом погибают один за другим, пока она дрожит под кучей мусора и смотрит, всей четвёркой копыт обнимая младшего в банде жеребчика. Его убивают тоже. Взрослые обожают убивать. А её бьют, страшно бьют, чтобы призналась: чтобы смотрела в красные от ненависти глаза старших кобыл и просила пощады, пока кое-как зашитая шкура слезает со спины. Они говорят, что ребята из банды подожгли и её дом. Тогда она кричит всё, что о них думает, а потом готовится умереть.
Но хрен тебе, а не смерть. Вот пять искр за доступного по цене жеребёнка. Покупайте, забирайте. С глаз долой, из сердца вон. А если сдохнет по дороге, так даже лучше, вот вам бумажка, что с доказательством смерти деньги можно там-то и там-то вернуть. Но вот второй хрен тебе, а не плохие попутчики. Достаётся сестрёнка, которая заботится о ней точно так же, как она сама заботилась о ребятах. Достаётся дядюшка Бу — самый бестолковый отец на свете, но тот единственный, кто не поверил в хуйню про подпаливших город подростков. А потом путь в Кладж, ведь сестрёнке с отцом уже всё равно, куда ехать, так почему бы не поехать туда, где живут знакомые с детства добродушные псы.
Вернувшись в настоящее, Джин оглядела подросшего друга. В ту встречу на галерее завода он был выше неё, но ненамного, а теперь вымахал в такую зверюгу, на фоне которой длинноногая зебра терялась как шарик спиральных полосок и спутанных чёрных волос. Они снова любились, уже по третьему кругу, начисто забыв про неё.
Джин решилась.
— А знаешь, Кроки, ты можешь нам доверять. Мы с Квинтой не такие глупые суки, какими кажемся. Сейчас придут ребята, и я, наравне с сестрёнкой, буду их удовлетворять…
— Эй!
— Наравне! Устроим великий псовый марафон! Кто знает… ххх… — она едва не задохнулась, сглатывая вдруг поднявшийся в горле горький комок. — Кто знает, что будет завтра? Но у нас есть сегодня. Сегодня мы всей толпой попросим… кредит у мэра. Он же наш в доску! Он должен помочь! С сотней искр мы заведём летучую лодку и скоро будем в столице. Мы поможем маме Квинты, а потом что-нибудь придумаем и сделаем из нашей сотни искр сначала двести, а потом и триста…
— Я знаю, что мы придумаем, — Квинта замотала головой, очухиваясь. — У меня есть план.
— Ага, которым ты ни с кем не делишься. Но я верю, план есть! А ещё я знаю, Кроки, что вы с ребятами нормальные, а не какие-то там извращенцы. Видишь, я не ною про любовь?! Мы просто сбежим в столицу, спрячемся там, разбогатеем, а потом, когда пони затихнут, вернёмся. Мы разделим всё поровну. Вы купите себе самых жадных сучек! Мы найдём себе в столице хороших жеребцов. Мы будем дружить семьями, а наши маленькие играть вместе. Вот… это всё, чего я хочу.
Высказалась, и аж потеплело. Про любовь — ложь. Про всё остальное — правда. Любящие любят любимых, и, пони забери, есть в мире разные формы дружбы и любви!
— Хм… — Кроки обнял её крепче, подтягивая к себе. Посадил на бёдра.
Попытался подсадить, потому что сестрёнка тут же снова принялась покачиваться, а одну мелкую кобылицу зажало между когтистой лапой друга и мокрой-премокрой сестрой.
— Так что твоё «хм», недоверя?
Пёс прыснул.
— Ладно-ладно! Мы на одной стороне! Только, суки, поймите же, красть у семьи я не стану. Особенно теперь, когда из-за проклятых пони мы все в нищете.
— Это не кража! Это кредит!
Квинта аж зашипела, поясняя за кредитование, жадных псов и формальные договоры. Подъёмные им полагаются? Щенятам — в смысле. Полагаются! А тут пони на горизонте. Значит всё, полундра, настало время вскрывать общак. И то, что общак пока что в городском банке, это лишь вопрос доверия.
К примеру, большие и толстые жирдяи обмениваются расписками на тысячи искр. Расписка, значит доверие. И они тоже оставят расписку, обещая всё с прибытком вернуть.
И вернут обязательно, потому что мэру тоже нелегко.
* * *
Жить одним непросто, особенно когда ты маленькая, да и сестрёнка у тебя тоже маленькая, а все чего-то хотят от вас обеих, трясут, давят, ломают. Одни пристают, другие пытаются куда-то пристроить, третьи просто пользуются, наслаждаясь собой. И увы, слов не все понимают: они обе рано узнали, что волшебное слово «отъебись» действует только на хороших, и совсем не помогает против плохих.
Сестрёнка недоверчивая. Этому она у окапи научилась, и очень зря, потому что местные псы, напротив, учатся доверию. Учатся неловко заигрывать, а не нападать из-за кустов. Учатся дарить подарки, а не считать монетки. Учатся хорошему, потому что, блин, видят, что у них обычаи дурацкие, а живущим рядом копытным друг с дружкой хорошо.
Но нельзя просто так взять и сказать, что обычаи глупые и вовсе не нужны. Всё ведь слагается из условий. Для мирного времени одно, для бедствий другое. Просто псовые больше созданы для того, чтобы зубами и когтями защищать свою собственность, а простые поникапи, чтобы устраивать сестрёнкам мелкие пакости, веселиться с друзьями и есть вкусные червячные пироги.
Ну и любить тоже. Потому что любить — хорошо.
— А вот так… особенно приятно, — Джин шептала слабеющим голосом, закинув на спину сестрёнки задние ноги.
Квинтин язык ласкался так часто. Вверх и вниз, вверх и вниз. А потом она дышала в щёлку, легонько тыкала клитор носом и хлестала кончиком языка. Иногда прерывалась, когда пёс по другую сторону брал её петельку особенно глубоко, но это простительно. Джин представляла себя на месте сестрёнки и со всей дури прижимала её к себе.
— Я же говорил, вылизывает она просто волшебно, — Кроки клыкасто ухмылялся.
— У тебя научилась?
— Скорее на мне тренировалась. Даже книжку просила для себя заказать. Как там называется: «Юным Старкаттери нравственное поучение».
Оу, Старкаттери, это магия! Вуу! Вууу! Только у сестрёнки с магией ничего не получилось, ибо духи не дурные: им эта пустыня в жопах мира нахрен не нужна. Да и пустынную мышку пожалела зарезать. Вроде всё собрали: и ножик, и маски, и круг из цветных мелков, а сестрёнка сначала как сожмёт нож побелевшими губами, а потом со звоном на пол. Мышке морковку, мышку в пустыню, слёзы ручьём.
Чтобы не обидеть сестрёнку, она сама старалась не думать о плохом, держать подальше от себя острые предметы и почаще сливать на мелкие гадости ту тёмную тучу, которая накапливается в душе.
— А вообще, мне нравится подсматривать, как сестрёнка трахается, — Джина призналась. — Очень красиво. У других как, просто потыкаются да потыкаются, а у неё то баклажаны, то верёвки с зажимами на сосочках, то восковая свечка и визги на весь Кладж.
Искусство! Мастерство!
— Ещё сосёт она просто бесподобно, — высказался пёс.
— Будто тебе есть с кем сравнить!
Ха, не удержалась!
— …Я такое даже у копытных не видел, чтобы юная сучка разом заглатывала и узел, и яйца, а потом ещё и ласкалась носом, прижимаясь под хвостом.
Вау. Она тоже такого не видела. Вот великая сила искусства на пересечении культур!
— Мы засняли, кстати. Показать?
— Гррр… даже не думай.
— Постой, вы починили проектор? — Джин аж открыла рот.
— Да!
Охренительно. Ну почему в день, когда починили проектор, им приходится уезжать?!
Проектор, это кино! Большие города, море, бесконечные полосатые на улицах! Которые гуляют друг с дружкой, покупают за фантики что-то вкусное в вафельных стаканчиках, целуются и ставят на шлюпках большие косые паруса. Потом приходят злые пони, и полосатые защищаются, строят железных монстров, чинят их в пустыне, рассказывая истории и любуясь закатом. Всё горит, всё взрывается, но полосатые побеждают, потому что пони — неверные, а зебры — самые верные на свете друзья.
В конце фильма, ещё совсем маленькой, она подолгу сидела, открыв рот, и гордилась — страшно гордилась — что у неё полосатые ноги и полосатый зад.
Ехуу! Лучше смерть, чем к цветным!
— Эй, Джин, очнись! Начинаем кино! — пёс загоготал.
— Не смей!
Аж до взвизга Квинту хлопнуло по крупу. Сестрёнка попыталась вскочить, но была поймана за хвост когтистой лапой. Прозвучал щелчок.
— …Кроки-кинема представляет! Только сегодня, только у нас, самая жаркая сучка семи королевств…
— Выруби!
Подняв уши и широко распахнув глаза, Джин видела, как на белёной стене появляется картина. Сначала чёрно-белая, а потом и цветная. По-настоящему цветная! И кобылка там изгибается, густо краснея мордочкой, показывает себя. Ей будто бы страшно, и одновременно интересно. Страшно интересно! Она дрожит, прижимается, лижет, ласкает себя быстро мокнущим копытцем. С частой дрожью ушек берёт в рот, а потом и заглатывает, под сильной, уверенной и когтистой хваткой насаживаясь всё глубже. Хвост бьётся, тонкими дорожками текут слёзы, а потом большой красный узел погружается, и глаза полосатой лезут на лоб. Но сестрёнка на этом не останавливается: дрожа всем телом ей удаётся взять в рот сначала одно, а потом и второе яйцо.
Ноги слабеют, едва не опадая, а брызги из тонкой петельки далеко выстреливают на мускулистые плечи алмазного пса.
— Бесподобно… — Джин вдруг осознала, что одновременно с кобылкой на экране сама брызгает сестрёнке в рот.
— Правда… неплохо?
Красная как помидор сестра заглядывала в глаза.
— Да это лучше «Песка и стали»! Это красивее «Парусов»!
Зачем, вообще, снимать кино о железках, когда можно делать большие, комплексные картины о сексе, дружбе и любви?!
И ей вдруг захотелось этого. Захотелось рассказать о себе и сестрёнке, о храбрых псах и пугливых окапи; о красивых закатах, когда в алый красится вся пустыня вокруг; о цветках буресвета, которые поднимаются после дождя, окрашивая дюны морской синевой. О том как они все вместе катаются по ним, обнимаясь до росистых мурашек, а потом жарят сверчков у большого костра.
О том, что жизнь есть повсюду. И это жизнь сложнее, чем кажется. И среди боли, которую только и видно сверху, хватает и душевной теплоты.
Что-то осветилось на боку.
Глава вторая «Злые окапи»
* * *
Вернёмся немного в прошлое, чтобы начать с того, с чего всё начиналось. Как так вышло, что псы лучше жеребчиков, а злые окапи даже не обнимут, пирогом не угостят. Ответ прост — обычаи. Странные у одних, и дикие у других.
Сестрёнка долго раскрепощалась. Мучительно. Самая зажатая на свете кобылица, с белоснежных перин на соломенный тюфяк. Она не хныкала из-за этого. Если бы хныкала — точно бы не подружились. Но это всё равно было заметно, хотя бы по тому, как над перловкой задирает нос.
Сказать, что у местных жеребчиков был дикий стояк на сестрёнку, значило бы ничего не сказать. Ходили табуном, заглядывали в окна, расспрашивали; а их кобылки крутились поодаль, прикладывая копыто к лицу. Мелкая? Пофиг, мелких здесь любят. Не хочет? Значит забили голову дурью, нужно переучить. Не доверяет? Значит нужно обнимать, ласкать и вкусным угощать.
Взрослые угощали, тыкаясь носами о настороженно замершую Квинту; затягивали на солому, чтобы перебрать шерсть и гриву; готовили горячую до пара воду в большой бадье, разминали мускулы и натирали шерсть кунжутным маслом, а потом очень внимательно чистили копыта, чтобы не портились о местный дурацкий песок. А сестра шарахалась от жеребчиков, которые не очень-то и скрывали, чего хотят, и что будут с ней делать, когда утащат в кусты.
— Ты странная, — ей говорили.
— Право имею!
— Хрена там. Будь как все!
Вообще, окапи не ревнивые, но видя как жеребчики вьются месяц, второй, третий, даже их проняло. Квинту застыдили. Мол, хватит мучить ребят, или поднимаешь хвост, или пинком под зад и дальше в Эквестрию. Когда злая-презлая сестра вернулась домой, Джина напомнила: «Лучше смерть, чем к цветным». В ответ как-то совсем грустно прозвучало: «Лучше».
В тот вечер они долго сидели на краю ущелья, бросали вниз хлопковые шарики, болтали обо всём. Было весело. А потом стало нерадостно, когда сестра ей всё припомнила: и разбитые окна соседей, с которыми вышло случайно; и окровавленный нос соседской мелочи, которая сама виновата; и даже то, что кто-то подъедает все пироги, которыми угощают, а от каши воротит нос. Было больно, когда прилетело по носу. И ещё больнее, когда на шее ошейник, на прутьях верёвка, а потом закрывается клетка и пустынные слоупоки тыкаются в бока. И сидит она, совершенно охреневшая, слушая неспешное «слоу-слоу» ничего не понимающего скота.
Тогда она начала грызть. Верёвка, бамбуковые прутья, и тихое бешенство внутри. Она выбралась, когда Солнце уже скрывалось за стенами ущелья; не нашла сестру в фургоне; побежала трясти местных жеребят. Копытом по носу, зубами за ухо — и совсем мелкая кобылка уже хнычет, мол, пошла на пустырь со старшими. Злое: «Веди!» — и хвост перепуганной окапи мелькает в тенях.
Нашлась Квинта рядом с рыночным помостом, в окружении тучи юных кобылиц и дюжины старших жеребят. Её целовали, и неловко поднимая очки она целовалась тоже. Старший в компании жеребец поглаживал её, обернув вокруг копыта высоко задранный хвост. Щёлка сестры была залеплена пластырем — белым таким, с ромбиками — а кроме того она старалась закрыться, вытягивая копыто под животом.
Это всех так забавляло. Кобылы совещались: учить доверию, или не учить. Решили — учить.
Появилась невысокая скамья, колышки, верёвки. Быстро и умело сестру связывали, чтобы скорее висела, чем стояла; чтобы могла раскачиваться, но не сжимать ноги, или тянуть копыта назад. Она застыла, дрожа всем телом и часто-часто взмахивая пока ещё свободным хвостом. Пластырь оставили, разве что приоткрыв с краю, чтобы не скрывал самое личное место кобылицы — пока ещё крошечный сестрёнкин клитор.
Джин протолкнулась через толпу, но показаться сестре не решилась. Так и стояла она в сторонке, разглядывая единственную подругу, пока её связывали, обступив со всех сторон.
— Вы конченные! — Квинта возражала. — Я пришла сама!
Её не слушали. Соседские близняшки обнимали, целуя торчащие как спичечные головки соски сестрёнки и водя носами по её напряжённому животу. Их копыта попеременно прижимались к промежности, чуть цепляя клитор, а языки, касаясь друг друга, оставляли влажные следы. Сестра потела до капель на шее, но её обтирали мягкими хлопковыми полотенцами, а как только она привыкла к ласкам, принялись дружно вылизывать, обступив со всех сторон: и копыта, и бока, и шею с ушками — по всему её телу гуляли гибкие длинные языки. Её трясло.
— У нас принято трогать друг друга, — нашёптывали соседские близняшки. — Это важно. А всё важное мы стараемся сделать приятным. И изнасилования в том числе. Привыкай давай.
Сестра молчала, пока её гладили, а дышала часто и неглубоко. Она намокала. Не сразу, не быстро, но языки у окапи очень чувствительные, они нашли самые щекотные места. Молча изгибаясь всем телом, Квинта потекла так, что пластырь оторвался, а вскоре, небрежно сдёрнутый языком, и вовсе упал на песок.
Кобылки отступили, теперь сестрёнку трогали юные жеребцы. Такие возбуждённые, что их пенисы едва касаясь шерсти оставляли влажные следы. Они скользили по бокам, и она вздрагивала, по очереди прижимались к щели, и она тряслась до копыт. А за этим следовали лёгкие, очень медленные движения, где головка члена приоткрывала половые губы, чуть натягивала плевру, а затем двигалась выше, погладив клитор. Жеребчик скользил по животу, отжимая соски, и сам прижимался сверху. И целовал, поглаживая своим длинным языком сначала зубы, а затем и проникая в приоткрытый силой рот.
Они кончали на неё. Сначала жеребчики, возбуждённые до возгласов, а затем и их кобылицы, смущённо сжимавшие морковки и кабачки. Сестру обнимали до короткого выдоха; открывали рот, зажав зубы деревянной рамкой; и целовали, показывая оплетённый витками и далеко вытянутый язык; а затем член, скользящий между сосков, начинал пульсировать, и струи спермы падали сестрёнке на живот, грудь, морду, покрывая белым уши, нос и глаза. Выстрел до ушей толпа встречала восторгом, а прямо в рот — овацией. Сестра крепко прижимала язык к нёбу, пока белые липкие капли падали на прикрытое только очками лицо.
Запавших на зебру жеребчиков было море, но немногие дождались выпавшей по жребию очереди — вокруг хватало и мокрых до задних копыт кобыл. Сегодня они не прятались по кустам, а ласкались прямо здесь же, подстелив хлопковые коврики, и лишь изредка краснея и укрываясь вторым ковром как одеялом. Кто-то со своими, кто-то с чуть более старшими, а кто-то и в первый раз. Соседские близняшки пристроились рядом с Квинтой, предлагая себя тем жеребцам, кого игра с потиранием сестрёнки слишком увлекала; а потом к ним присоединилась и совсем мелкая кобылка, вскрикнувшая, когда её оседлал жеребец.
Джин нашла себя одинокой посреди разбившейся на пары и тройки толпы. Она подошла к сестре, которую обтирали мягкими хлопковыми полотенцами и начисто вылизывали, тоже попробовала лизнуть, поймала взгляд. Узкие как точки зрачки смотрели из огромных, на пол-морды глазищ. Сестра молчала. И она молчала тоже, только облизывая и чуть дрожа. Испугавшись толпы.
Хотелось перегрызть верёвки, но сестру уже развязывали. Хотелось увести домой, но их обеих удержали, сначала носами о грудь, а потом и огромным пирогом с персиками и большой тыквой абрикосового вина. Сильно разбавленного компотом, как она узнала позже, потому что они обе были ещё слишком маленькими, чтобы увлекаться настоящим вином.
* * *
Для неё с того дня ничего не изменилось. Для сестры — многое.
Жеребчики приходили, и Квинта шла следом, подгоняемая толчками носом о круп. Её вели в «Дом забав», где в большой общей комнате лежали тюфяки со свежей соломой, глиняные игрушки и хлопковые коврики. Здесь было прохладно в полдень, а ночью тепло, потому что каждый вечер прогревали большой тандыр. Здесь была баня — общая для всех жеребят; и столовая, куда к обеду взрослые несли что-нибудь вкусное, хотя бы по крошечной порции, зато на всех.
В «Доме забав» не было старших, никто не мешал. Накормив обедом, сестрёнку опускали животом на подушку над огромным пушистым ковром. Ей делали промывание: с вёдрами, трубкой, и кислой мордой сестрёнки; а затем горячую ванну с поцелуями и парой ласкающих всё тело жеребцов. После мытья начинался массаж, увлечённый и сильный, в котором пара юных жеребцов стрелками копыт водили ей по бокам и бёдрам, глубоко сминая ягодицы, а затем, когда щель намокала, широко открывали её. Поначалу Квинту просто ласкали, как прежде, делая скользкими живот, шею, грудь. Она должна была вылизать всё до последней капли, в этом запрещалось помогать.
Когда она отказывалась, её не били, а просто принуждали. То верёвками, то мягкой пластиковой рамкой в рот. Вскоре сестра уже глотала, сама открывая рот под струйки спермы, а потом и подныривая жеребцу под живот. Соседские близняшки показывали, как правильно облизывать, и она повторяла, иногда морщась и прикрываясь хвостом. Но вот хвост оборачивали вокруг копыта, ноги привязывали ремнями, а старший жеребчик пристраивался позади.
— Не надо верёвок, — она просила.
— Лягнёшься ещё.
Язык у окапи не только длинный, но и очень сильный — гладкий, узкий, с шероховатым кончиком — и Квинта аж билась, когда жеребчик начинал её с силой вылизывать, в кольцо захватывая и оттягивая побагровевший клитор, а зубами гуляя по её лепесткам. Она молча кончала, брызгами смачивая его лицо, а потом и следующего, и следующего, пока совсем не выдыхалась, а жеребчики с такими же мокроносыми кобылками посмеивались вокруг неё.
Наконец, измотавшись, сестра только часто дышала, вывалив язык. Она не двигалась, не реагировала на прикосновения, а глаза смотрели в разрисованную морем и пальмами стену словно в пустоту.
И тогда жеребята, посовещавшись, решили:
— Пора.
Старший жеребчик пристроился позади Квинты с ножницами в зубах. Джин удивилась тогда. Отложив тыкву с чаем подошла ближе. «Так надо, — ей шепнули, — чтобы не портить недотроге первый раз». Она дала в нос дураку. Сбегала домой за хирургическим набором, вернулась со скальпелем, спиртом, светильником и ватными тампонами. Сестрёнка уже спала, так что они и не стали её будить. Копыта на ягодицы, широко раздвинуть, и, глубоко вдохнув её терпкий запах, коснуться лезвием и сразу же отступить. Идеально. Даже не вздрогнула. Плевра сестры была срезана по краю, а Джин уже поглаживала оставшуюся бахрому ватной палочкой с мазью, которая тут же остановила кровь.
Все смотрели на неё, когда Джин закончила с обработкой раны. Держа скальпель в уголке рта она поднялась.
Вдруг стало очень плохо. Это не помощь. Это не та помощь, которую храбрые и сильные окапи дарят тем, кого любят. Эта не уважение. Не то уважение, с которым к ней отнеслись старшие ребята в банде, ни разу не подзывая её к постели и не требуя у всех отсосать. И это чувство было таким, словно пустота внутри разрывается болью. Словно друга ставят к стенке, а потом стреляют в него всей толпой, превращая в кровавое пятно.
— Нахуй так жить? — Джин прошептала, впервые оглядываясь так, чтобы разглядеть лица других.
Вот старший жеребец в компании. У него большой неровный шрам на шее, где удаляли опухоль, а грива редкого среди окапи пепельного цвета. У него глупое имя — Кино-агвати — с ударением на «и», а для друзей он просто Кин. Вот две маленькие рядом с ним кобылки, соседские близняшки, похожие друг на друга как две капли. Одна храбрее — её зовут Арики — а вторая повсюду следует за ней. Вот совсем мелкая кобылица, у которой на посвящении Квинты был первый настоящий секс, и ей не очень-то понравилась. Она хмурилась весь день.
Множество взглядов. Десятки давящих толпой знакомых лиц. Уродина по прозвищу «Невидимка Джин» не могла дружить с остальными, но глаза-то есть, как есть и уши. И никто не запрещал ей запоминать имена.
— Кин. Люф, Тето, Арики… — она обратилась по имени к каждому, скользя взглядом по набившейся в общей спальне толпе жеребят.
Что сказать, она не знала. «Ребята, я порежу первого, кто обидит сестрёнку», — сказать это? А они пожалуются старшим, и больше она уже никого не порежет: будет только ошейник, клетка, и унылое просо столичного работного рынка. Откуда её отправят прямиком в Эквестрию, потому что бешеная уродина никому не нужна. «Ребята, пожалейте её, тогда мы станем хорошими друзьями?» — промямлить это. Так им плевать на дружбу, им просто хочется оттрахать новенькую: всех новеньких в племени трахают до одурения, пока не нарожают кучу новых дырочек для ебли.
Она родилась в точно таком же племени. Всё общее, всё совместное, все у всех на виду. Дома тоже завлекали, просили, убеждали — и заставляли, если кобылка не хотела играть в то, что мама называла «конкуренцией спермы», а затем рожать племени здоровых и сильных работяг.
— Ребята, нахуй так жить? — Джина спросила, убрав скальпель к остальным вещам.
— Что?
— Сестре будет больно. Мне будет больно. Вам — хорошо. Дохуя хорошо?
Она опёрлась копытами о грудь старшего в компании жеребчика, заглядывая ему в глаза.
— Кин, тебе реально понравится трахать её, когда она плачет? Так хочется сделать ей больно?.. Ну зебра и зебра. Ну и что, если её предки выгнали в пустыню ваших предков. Ну и что, если она такая недотрога. Ну и что, если у неё хреновая мама и хреновый отец. Зато когда мне было плохо, Квинта перевязывала меня и делилась едой. Она читала мне книги. Она спасла меня…
— А пиздёнку лизала? — спросил Кин.
— …Она спасла меня, как спасала бы каждого. И тебя тоже. Вот ты её обидишь, а она не обидит тебя.
Все молча смотрели на неё. Кто-то привычно отводил взгляд от изуродованной морды, кто-то морщился, кто-то кривил лицо. И непонятно было, то ли оттого, что эта невидимка вдруг подала голос, то ли потому что неудобные мысли каждому приходили на ум.
Ну давайте же. Встаньте рядом! Громко скажите: «Мы не будем!» Скажите так, чтобы услышали все! Скажите: «Мы её защитим!» И пусть они ненавидят нас, преследуют, убивают и бьют плетью — бьют до тех пор, пока на спине не откроются раны. Мы перевяжем друг друга! Мы не будем теми, кто обижает своих!
Она побоялась сказать так громко, но выбрала другие слова:
— Я не обижу сестру, — Джин отошла к постели. — Я буду её защищать. Хотите, вас тоже?
— В нос дать?
— Я тебе сама в нос въебу! — Джин встала на дыбы, вдохнула и выдохнула. И опустила копыта.
Нет, так дела не делаются. Она представила других жеребят, вооружённых и сильных, живущих в её сердце и молчаливо стоящих позади.
— У нас на Работном рынке был негодяй, который всех обижал. И кобылок, и жеребчиков, и даже самых младших, однажды продав куда-то всё сухое молоко. Мы подкараулили его и порезали насмерть. Я тоже была там и ничего не сказала, хотя меня грозились продать в Эквестрию. Никто не сказал. Следующий негодяй был лучше, он хоть немного, но боялся нас.
Пепельногривый Кин подошёл к ней, упираясь носом в нос. У него были такие злые, красно-розовые из-за песчаной болезни глаза.
— Так может съебёте уже в Столицу? К своим подземельям, рынкам, негодяям и прочему дерьму. Хоть все перережьте там друг друга. А у нас свои правила и свои негодяи. И свои, дракон забери, права.
Он будто хотел сплюнуть, но не стал делать этого в общем доме. Только с фырканьем отвернулся. Он сидел на своей лежанке, рядом с парой погрустневших близняшек, долго шептался с ними. А потом вдруг обратился к ней.
— А она хорошо перевязывает? В смысле — раны.
— Ну, так себе.
— Было бы круто, если она умеет что-то, чего не могут остальные. Тогда все взбесятся, но если постараться, мы выбьем для неё особенные права.
Как у мамы, которая училась в столице и лечила других. Которая посмела родить свою поникапи, а потом защищала её, никому не давая обижать.
* * *
В ту ночь они спали обнявшись, а соседские близняшки натаскали пуховых подушек, чтобы сделать самую уютную на свете постель.
Наутро обо всём поговорили. О том что страшно и что гадко: после чего лучше прыгнуть с утёса, а что ещё можно потерпеть. О том, чего хочется и что принято: насколько это «хочется» стоит того, чтобы обидеть другого, и насколько это «принято» нравится, чтобы терпеть.
Квинта крутилась у потрескавшегося настенного зеркала, разглядывала себя и дёргала щель заведённым под живот копытом. Ранка побаливала. А после того как Джин во второй раз обработала её мазью, без лишних слов сестра заехала ей в нос. Слушать: «Так надо было», — она не захотела. И только принялась сглатывать слёзы рядом с зеркалом, в окружении потягивающихся на своих лежанках пар кобылок и жеребцов.
В общей спальне «Дома забав» было жарко, а утренним сексом пахло так, что кружилась голова.
Вновь начались разговоры. Все жеребчики тянули копыта за то, чтобы отъебать сестру во все дыры. Кобылки подначивали их. Но вот маленькая Люф призналась, что в первый раз с первым попавшимся, это больно; Джин напомнила, как в столице обижают жеребят; а близняшки где-то раздобыли большую коробку резинок, с которыми можно и трахать до визга, и вроде как не всерьёз.
— Просто, помешанные, не кончайте в меня, — просила Квинта.
— Мы ничем не болеем! И ты тоже. Иначе хрена с два тебя подпустили бы к нам.
— Просто не кончайте. Нахуй убьюсь.
Дошло до драки, когда жеребчики спорили. Кто хуже: недотрога, или главарь Кин, который обещал без резинки выебать первого, кто кончит в неё. «Это наше патриархальное право!» — тыкали ему в нос разъярённые жеребцы. «Моё тоже!» — он с улыбкой отвечал, зыркая на всех красными глазищами из под поднятых на лоб солнцезащитных очков.
Когда драка таки разгорелась, Джин бросилась на жеребцов, мимоходом разбив бутылку, а Квинта следом, с зажатой в зубах метлой. Было больно, было страшно — когда противников вдруг оказалось вдвое больше, чем соратников. Мелкой Люф до брызг крови досталось по носу, их с Кином привязали друг к другу. А Квинту с близняшками растянули на большом пушистом ковре.
— Бунт на корабле? — охреневал Кин.
— Да! — совсем мелкий подросток, с мордой в сверчковых ожогах, смотрел на него. — У нас что, дохуя радостей в жизни? Так дохуя, чтобы терпеть невыебанную зебру?! Да пошёл ты в жопу, голова!
Нашёлся и кляп, чтобы не слушать возражения лидера. И розги, чтобы надавать по крупу всем проигравшим. Особенно сильно ей с сестрёнкой, потому что посмели в честной драке размахивать метлой и до крови тыкаться розочкой. «Взять да уебать», — перевязавшись решили жеребцы.
Квинта взвизгнула, когда вдруг нашла себя прижатой тяжёлым телом. И вдвойне громче, когда в щель вдавилась большая и очень твёрдая штука. Жеребец скользнул по ней, широко раздвигая половые губы и слегка оттягивая, а затем обтираясь о шерсть живота. И снова, снова, снова, смазывая себя её соками и сам часто капая на ковёр. Стоило сестре чуть расслабиться, и следующее движение изменило направление. Плавно и медленно, надавливая всем своим весом, жеребец проник.
Сестра закричала, когда разом и головка и четверть члена скрылась внутри. Жеребец позволил ей отдышаться, поглаживая и покусывая о шею, а затем продвинулся ещё немного, и ещё. Ровно до медиального кольца, и чуть дальше, до её резкого выдоха и отжатого наружу клитора, который пристроившаяся рядом кобылка тут же принялась лизать.
— Внутрь не кончай, — попросила сестра. — Пожалуйста, не кончай.
Кобылка рядом захохотала до слёз.
Сестру крепко держали, обхватив и ноги, и шею. А жеребец позади плавно покачивался над ней. До четверти, до половины, до четверти, до половины — и вдруг до вскрика чуть дальше, заставляя сестрёнку сжаться до рельефа мышц на животе. Сдвинуть бёдра ей не давали, а жеребец, всем своим весом преодолевая сопротивление, продолжал. Она заплакала, тихо всхлипывая в подушку, и погрустневшие близняшки, в которых уже кончили и отпустили, принялись слизывать слёзы с уголков глаз.
Джин лежала, сжимая скальпель под копытом и чувствовала, как по ноге струится кровь. Верёвки она срезала, но всё не решалась… умереть.
Долго, очень долго жеребец над сестрой сдерживался, то продолжая в медленном темпе, то почти вынимая. Он приобнимал её за грудь копытом, слюнявил ухо, скользил зубами по холке, заставляя дрожать. Близняшки рядом старались тоже, вылизывая и прижимаясь носами. Словно мягкая, мягкая подушка, которая давит сверху, чтобы задушить. Сестра плакала всё громче, дрожа от ушей до хвоста.
— Хватит, — заскулила Квинта. — Пожалуйста хватит. Больше не могу…
— Недотрога.
Жеребец вынул, обхватил её ещё крепче, нащупал точку под хвостом.
— Так согласна?
— Да!
Он вошёл, поначалу медленно, но заметив, как сестра расслабляется, быстро ускорил темп. С частыми хлопками яйца били по ягодицам, а Квинта тёрлась о подушку, стирая слёзы и текущий со лба пот. Она принимала, больше не сопротивляясь, и даже удержала позу, когда жеребец подтянул её ближе, удобнее для себя поднимая сестрёнкин круп. Он долбил и долбил её, больше не сдерживаясь; кончил с резким выдохом, прижимая сестру о постель; а когда вынул, хвастливо показал всем опадающий член, поблёскивающий до середины и дальше. Белые нити стекали на ковёр.
В тот день сестра смогла принять только одного. На следующий день двоих, а потом, постепенно, по-двое, по-трое и всех остальных жеребчиков, которые её хотели. Они уже не сдерживались, прижимая её мордой о подушку и широко в стороны растягивая задние ноги. Сестра просила не кончать внутрь, и старшие жеребчики, сплюнув, спускали под хвост, а для самых неуёмных близняшки раздобыли коробку резинок и всем своим авторитетом заставляли надевать.
Дюжина жеребчиков, это много, особенно когда они дружно решили, что в неприступности сестрёнки что-то есть. Первый восторг длился долго, и даже очень, судя по завистливым взглядам младших кобыл, но в конце концов юные жеребцы наигрались вдоволь и постепенно начали возвращаться к своим. Теперь квинтина петелька была не долгожданным трофеем, а равной среди равных, так что её уже не подначивали, а принялись учить.
— Ну подмахивай же, глупая, — ей говорили близняшки.
— Не получается!
— Старайся!
За «старайся» следовало «старайся лучше», а дальше и вовсе обидное: «Почему ты не помогаешь?» Поначалу за глаза, а затем и в открытую сестру стали обзывать неумехой, а потом и вовсе «брёвнышком-бревном». Худшему мерзавцу прилетело по искусанному сверчками носу, а потом и его близняшке, так что она прижалась хныкаться к своей сестре.
Две пары испуганных глаз смотрели на них с Квинтой, а та рычала, зло щурясь и загребая копытом песок:
— Отъебитесь уже, помешанные! Вы своё получили! Что вам ещё нужно от меня?!
— Но… нужно тебе, — кобылка с разбитым носом едва не плакала.
И тогда сестра плюнула ей в лицо.
На следующий день жеребята ушли, а сестрёнку не пригласили. Она долго стояла, подняв взгляд к небу. Вскинула копыто. Приготовила вкуснейшее рагу. В тот вечер они вдвоём снова сидели вместе на краю ущелья, хрумкали тушёной капустой из большой общей миски, болтали обо всём на свете, кроме того, что будет завтра, когда сволочи наябедничают остальным.
Оказалось — не наябедничали. Вместо этого наврали, что всё хорошо.
* * *
Может, где-то в городе и получилось бы лгать неделями и месяцами, что, мол, всё в порядке, что нет здесь никаких проблем дружбы, а вон та кобылка в чёрном пыльнике просто любит одиночество. Но в сообществе на полтысячи пар внимательных глаз и поднятых ушек не бывает таких чудес.
Жеребят застыдили. Мол, хотелок море, а поддержки ни на бит. Мол, дурни безответственные, оставили подругу у открытого окна.
— Да не хочу я секса! — орала сестра перед толпой. — Я ненавижу это! Просто отъебитесь от меня!
— А мы — хотим.
Нет, прямо так ей не сказали. Но когда взрослые начинают заливать про здоровые отношения, семью, дружбу и любовь, это то самое, громкое и ясное «хотим». Ну, или «так принято», что ещё страшнее. Лучше уж пусть будет просто «хотим».
Сестрёнку выдали замуж.
Вот тебе дом, хватит жить в фургоне. Вот тебе вторые родители, которых все уважают. Вот тебе швейная машинка, за которой ты будешь работать, и кисточки, чтобы красиво разрисовывать ткань. Вот тебе жеребец, который будет обнимать тебя, защищать и вкусно готовить. И не смей говорить «не хочу»! Лучшего у нас всё равно нет.
Сестрёнка расплакалась. Да и пошла следом, сжимая в зубах протянутый кончик хвоста.
У зебр не принято перечить взрослым. Особенно стареющему отцу, который наконец-то пристроил младшую дочь. Особенно толпе, которая говорит, что так надо, а росту в тебе — до макушки по грудь. А ещё очень сложно сказать «нет» высокому, атлетически сложенному жеребцу.
На обед была большая тыква ячменного плова, хлебники с капустой, немного абрикосового вина. Абрикосовое дерево росло за домом, а глинобитная хижина радиостанции была гораздо опрятнее их фургона. Что до жеребца, которому вдруг досталась проблемная кобылка, — он был военным и рано овдовел.
В отличии от других он не говорил «хочу» и «так принято», а честно пытался ответить, а если не отвечалось, хотя бы разобраться, почему сложилось так.
— Любовь для любви, семьи для племени, — таким был первый ответ.
Мол, в нашем мире лучше отделить одно от другого, чтобы сильные жеребцы тянули слабых кобылок, а сильные кобылы слабых жеребцов. Иначе слабые бедствуют, а сильные мучают, не зная своих жертв. Лучше решать конфликты сексом, чем насилием. Насилием, чем изгнанием. А изгнанием, чем смертью. Мир начал выкарабкиваться, только когда слабых прекратили убивать.
— Я не слабая, — буркнула Квинта.
— Проверим?
Они поспорили. Он разрешил ей отказываться, а она обещала честно говорить, что нравится и чего хочется. Всю ночь они спорили об этом, до хрипоты и копыт у нахмуренного лица.
«Уважения, силы, богатства», — быть самой главной и всеми помыкать. Вот чего хотела сестрёнка. «Чтобы никто не обидел», — так подытожил её речь жеребец. А ему хотелось дружбы, любви, сотрудничества, — чтобы жить вместе, растить маленьких, поглядывать с холма на идущие в Эквестрию толпы, а если спросят, искренне отвечать: «Нам и здесь хорошо».
Конфликт. Конфликт? У окапи конфликты решаются сексом, но сестра твёрдо сказала «нет».
Джин показала жеребцу язык.
В круглой глинобитной хижине была единственная комната, закуток с лестницей в погреб и расписанные охрой белёные стены. Жеребец спал на хлопковом ковре с подушкой, как принято у окапи, а они притащили из фургона свой общий спальник, тумбочку и надувной матрас. Сестра занялась огородом — редиска, редиска, редиска — сама Джин проделками, а сестрёнкин суженный своими железяками. Местное чудо света — додревняя тропосферная радиостанция — слушалась его и только его.
Наверное поэтому, и по складу прочих причин он был здесь главным. По радио спрашивали, а он чертил на карте миграции кошек и раздавал распоряжения. Бывало, что кошки снова что-то мутили, тогда он весь вечер яростно спорил с Жирдяем и очередной делегацией алмазных псов, после чего брал летучую лодку и надолго отбывал. Тогда вместо него за рацией садили сверчкового жеребчика из тех самых, который фыркал в лицо Квинте и хвастливо крутил переключатели, а рядом с ним близняшек, поскольку только они здесь и знали понячьи языки.
А им с сестрёнкой было пофигу, они сидели на своём матрасе с наушниками и слушали столичные передачи. Когда ловилась музыка, в два копытца они включали запись, а потом веселились до полуночи напевая караоке и танцевали, выйдя за порог. Никто не загонял в постель, никто не обижал.
Но и работы хватало. «Серьёзно, Квинт, вот тебе ячменные лепёшки, или плов с овощами и огород до заката. Выбирай. Огород сам за собой не проследит!»
А сестрёнка и не против:
Я ЧАСЫ ПЕРЕВЕРНУ,
И СНОВА ШЕСТЬ НОЛЬ НОЛЬ!
Я КАБАЧКОВ СКОРЕЙ НАТРУ,
ДЛЯ ГУСЯ КОТОРОГО ЛЮБЛЮ!
Веселилась Квинта, крича диким ором с гусиной тёркой в зубах.
Когда вся редиска была прополота, а гусиные кабачки натёрты, их двоих ждал ужин с тыквой вкусного плова, а потом и большая бадья горячей до пара воды. Мылись они вместе. Квинта пыталась спорить, что это не по правилам, но старший окапи делал морду кирпичом. Мол, можешь хоть хныкать, хоть орать, но эротический массаж каждый вечер тебе обеспечен. Так надо, блин.
Распаренная и чисто обтёртая Квинта лежала на лавке, а рядом с отложенными на тумбочку очками стояла миска смешанной с кунжутным маслом мелкой солью; большие копыта окунались в неё и касались сестрёнкиных бёдер, боков, ягодиц. От задних копыт к закрытой подрагивающим хвостом промежности, вдоль позвоночника, к плечам, шее, вискам. Квинта чуть ёрзала, а жеребец её удерживал, растирая до красноты. Глубоко и сильно он прощупывал всё её тело, до смущённого смеха массировал живот.
Он возбуждался, и во все глаза они обе смотрели на вдвое большую, чем у самого крупного жеребчика дубинку. Сестрёнка начинала дрожать, сжималась. А потом жеребец гладил её, чесал за ушком и объяснял, что сейчас пригласит близняшек поразвлечься, и они останутся на ночь.
— Серьёзно что ли? — сестрёнка таращилась, хлопая глазами.
— Серьёзно. Уютно у нас.
* * *
В тот вечер жеребец ушёл и вскоре вернулся, вталкивая носом о круп двух смущённых кобылок. Обе они залезли в бадью, поначалу лохматые, но вскоре и чисто распаренные, блестящие от смешанного с солью кунжутного масла. Обе хихикали, когда большие копыта гуляли по животам, часто останавливаясь на промежности и краями приоткрывая щель. Когда он закончил с первой, она полезла целоваться, а закончив с массажем второй, затащил их обеих на ковёр, крепко обняв.
— А нам… можно уйти? — Квинта выглядывала из-за входной двери.
— Конечно.
— Нет уж, завидуйте, — высунувшаяся из под жеребца Арики широко улыбнулась. — Нам с папой всё можно, а вам друг дружке лизать.
— С папой?.. — Квинта остановилась.
Фыркнув, Арики показала ей язык; вторая близняшка тоже; а потом и взрослый жеребец. Когда три длиннющих языка едва не лизнули Квинту в мордочку, та вздрогнула, а когда эти трое предложили ей дружно вылизать щёлку — молча выбежала за дверь.
Джин тоже, яростно оглянувшись.
Сестру она нашла на огороде, среди грядок редиски и гогочущих гусей. Держа тёрку в зубах та натирала кабачок, с хрустом разгрызая кончик, а всё натёртое ссыпало в большое гусиное корыто, куда обеспокоенные птицы заглядывали, но не спешили есть. Кабачковые стружки слипались, слёзы текли рекой.
— Я убьюсь нахрен. Не хочу. Не хочу здесь жить, — Квинта стонала.
Можно было бы что-то возразить, но Джин просто присела рядом с гусыней в копытах. Сама взяла тёрку для кабачков. Вообще, всякое бывает в мире, но, как говорила мама: «Выживание — судья социальных систем». Она называла эту хрень то «откатом к дикости», то «плато», а потом много курила и размышляла вслух, что если в одном племени трахаются, в другом трахаются, а от третьего остались только три домика и черепки на песке — то здесь явно кто-то сумел приспособиться, а кто-то не сумел.
А ещё мама рассказывала о тех, кто уехал в Эквестрию. Где очистили землю от яда, где в полях растут большие жёлтые дыни, а пегасы приносят дождь.
— Давай сбежим, — Джин предложила.
— А куда?
— Нуу… в столицу например. У нас с ребятами ещё оставалось убежище в туннелях второго бункера, которое я не выдала. Я буду прятаться там, а ты приторговывать нашими запасами на рынке. Как-нибудь проживём.
Сестра скривила губы, отвернулась. Страшно принципиальная — ей тоже не хотелось возвращаться в город, где есть граждане и не-граждане. И где ты живёшь, учишься, идёшь в среднюю школу, а потом тебе говорят, мол, милочка, у тебя кровь недостаточно чистая, а семья недостаточно уважаемая. Простыми словами, ты даже не гражданин.
Вот тебе дорожка в Эквестрию, где живут пони. Вот тебе Кладж, где выебут, а потом ещё раз выебут. И вот Столица, где ты рабыня, дочь рабыни, а значит ходи с клеймом вместо клановой татуировки, чтобы все знали, что ты не честная менди, а наполовину старкаттери. Стало быть — говно.
Глубоко вдохнув, сестрёнка направилась обратно к дому. Украдкой заглянула в окно. Джин подошла тоже — и оторопела.
— Вау, а она крутая.
Арики как нехуй делать принимала взрослого жеребца. Она покачивалась под ним, красиво изгибаясь животом к земляному полу, а здоровенная угольно-чёрная дубинка вдавливалась ей в промежность и с каждым мокрым шлепком наполовину скрывалась внутри. Жеребец поглаживал её, а она часто и с короткими хрипами дышала. Вздрагивала в мгновения особенно сильных ударов, но потом снова тянулась навстречу, принимая до касания срединного кольца.
Сестра молчала, тоже смотря рядом и касаясь гривой щеки.
— Это отвратительно, — она прошептала.
— А я думаю, ей нравится.
Кобылка под окном старалась. Очень старалась. Так глубоко и так сильно для своего возраста, что подобного Джин не видела даже в столице. Теперь вопрос века: в писечку принимает, или в пончик? Если в пончик — так всякая может. А если в писечку, что же, реально, герой. Разглядеть не получалось. Глупый жеребец так пристроился на своей дочке, что толстым… — ладно, красивым мускулистым задом — перекрывал всё.
Джин прокралась ко второму окну, сестрёнка следом за ней.
— Блин, ну покажите вы, покажите… В петельку? В пончик?..
— Да какая разница! Нас просто мешают с дерьмом!
Ха, будто вся жизнь не из этого! Это как с изнасилованием. Вроде и хочется, и нравится, и одновременно очень стыдно. Так стыдно, что плачешь и насилуешь, а потом то возвышенное чувство пробивает небеса. Катарсис, ёб! Словно лишить девственности любимую сестрёнку, а потом день за днём смотреть с копытцем на влажном месте, как её трахают и снова трахают. И нет, не спасти, не увести с собой на край мира, а просто быть той, кто смотрела, кто не спасла.
— Я ей завидую, — Джин прищурилась, разглядывая лицо.
— Чего?
— Ей не страшно. Ей не было страшно даже тогда, когда те жеребчики насиловали нас.
Джин готова была поспорить, что любой из них бы сдулся, скажи эта мелкая кобылица единственное слово «отъебись». Но она не сказала. Она была в безопасности. Ей не хотелось обижать своих.
Это как жить с мамой, которая возьмёт и скажет всему племени: «Отъебитесь от моей дочери», — и никто не обидит, никто не затащит в тёмный закуток. Только… ещё лучше, поскольку мама ей строго запрещала водиться со старшими жеребчиками, а этот жеребец не запрещает. Он сам как старшие жеребчики. Он просто делает, что ему нравится, и не мешает развлекаться другим.
Это как жить с ребятами из банды. В его взгляде было что-то от взглядов погибших друзей.
— Эй, что ты творишь?!..
Джин толкнула дверь. Она пристроилась на ковре, бок о бок со второй близняшкой. Вскинула голову. На мгновение их взгляды с жёстко ебимой кобылкой пересеклись. Та покраснела, но Джин уже смотрела выше, разглядывая довольную морду жеребца. Хоть капелька сомнения. Хоть тень игры. Неа, нифига. Одно только самодовольство, смешанное с похотью, и глубокие, очень глубокие удары в дрожащую мелочь, которая слабо хрипит мордой о земляной пол.
Она принимала писечкой. Так широко растянутой, что едва не трещала, и так глубоко, что неровное кольцо на середине члена билось о торчащий наружу клитор, а на животе проявлялся выступ, поднимающийся от сосков и выше пупка. Было не очень шумно: только хрипловатое дыхание кобылки и влажные хлопки берущего её жеребца. Никаких наигранных стонов, как в зебринской порнухе, а только то особенное дыхание, которое слышалось от спальников, когда ребята из банды приволакивали поразвлечься знакомых и не очень кобыл. Всегда маленьких! Взрослым нельзя доверять.
Вдруг представилось, как после такой-то ночи Арики просыпается, по уши залитая спермой, промывает себя с резиновой трубкой и ведром, а затем возвращается к жеребчикам. Чтобы обниматься, смотреть кино на старом проекторе, целоваться с друзьями, а потом снова устроиться мордой к подушке, повыше поднимая вновь намокший круп. Обслуживать взрослых, конечно, весело, но свои ближе, да и вообще — свои.
У каждого они свои — эти свои.
— Признавайся, Арики, — Джин обратилась. — Это ты к папе полезла?
— Ауу…
— А когда полезла? Если до жеребчиков, то ты самая крутая на свете. Если после, тоже крутая, но я знавала ребят покруче тебя.
— Нет, это я крутой, — жеребец широко улыбнулся. — Такую-то верность воспитал. И её, кстати, Тето зовут, сколько можно путать?
Красная как помидор кобылка только пискнула, подмахивая ещё сильнее. И, блин, правда, это была не та храбрая Арики, а вторая — самая скромная и незаметная на свете близняшка. Пока храбрая Арики лезет ко всем жеребчикам, вторая тихо сидит в сторонке; а вечером, оказывается, её нежная писечка превращается для старшего жеребца в настоящий траходром.
Он кончил в неё, введя особенно сильно, и до короткого всхрипа прижимая о пол. С крупом кверху кобылка обмякла, белые капли струились у неё по ноге.
* * *
Сестрёнка не смогла долго мяться снаружи. Её очкастая мордочка мелькала в окне, когда жеребец смазывал член маслом; появилась в двери, когда закинул дрожащую Тето на себя, копытом разминая ей второе отверстие; и тихо юркнула внутрь, когда вошёл.
Втроём они смотрели на довольного-предовольного жеребца и его слабо брыкающуюся жертву. Все молчали, прерывая тишину только дыханием. Копытце Арики скромно тянулось под живот. Сама Джин незаметно натирала себя тоже, хотя и хотела устроиться так, чтобы он видел её самое сокровенное место, и одна только Квинта прижимала оба передних копыта к красному как томат лицу.
— Они так долго будут, — шепнула Арики.
— А?
— Могут час. Могут два. А могут и всю ночь. Вообще без тормозов…
Оу, наверное потом страшно болит. Но кого, Пустошь забери, волнует это «потом»? Нужно жить ярко. Нужно жить сильно. Жить как пожирающий город изумрудный огонь! А это значит бороться, любить, дружить. Ударить ножом злодея, обнять друга. Встать вместе, ухмыляясь толпе разодранными губами. И пусть калечат, пусть насилуют и убивают — им не победить, пока Пустошь рядом, а с обгорелых мордочек смотрят пылающие глаза.
Она смотрела, как мелкая кобылица стонет под вчетверо большим чем она жеребцом, и чувствовала, будто просыпается. Сначала слабая, а потом и широченная — прямо до ушек — улыбка появилась на лице.
— Квинта, хочешь, я покажу тебе фотографии Эквестрии? — послышалось рядом.
— А?
— Мы родились там. Не обвиняй нас, пожалуйста! Мама сильно болела, поэтому папа спас нас тем единственным способом, каким мог. Мы бегали по лугу! Мы ходили в настоящую школу! Хочешь, я всё тебе покажу?!
Арики убежала к лестнице на чердак и тут же вернулась, шурша альбомом. Принялась рассказывать.
— Вот, смотри, это Вишенка, а это Льдинка, которые нас спасли. Вот мы совсем маленькие, а тот удивлённый жеребчик рядом, это папа. Вот наши приёмные родители, они зебры, а вот дом, где жило ещё несколько таких же как мы жеребят. Вот Школа дружбы, куда мы ходили совсем маленькими, а вот Школа мира, куда пошли в первый класс. Вот большая фотография со всеми друзьями, а там дальше, ага, зелень до горизонта, это наш собственный вересковый луг.
Кобылка в объятиях жеребца запищала особенно громко. Потянулась навстречу. И он позволил ей эту вольность, плавно провернув на окончании члена, принялся целовать. Их тонкие языки сплетались кончиками и боролись, длинной петлёй скользя то по щекам, то по прижатым друг к другу носам. А тот глубокий и сильный внутренний массаж, что доставался кобылке, всё продолжался и продолжался, заставляя её то взбрыкивать, то бить передними копытцами о изрезанную шрамами грудь жеребца.
— Квинта, там вовсе не так плохо, как рассказывают. Нет, нас не унижают цветные. Мы жили вместе с зебрами и окапи большой общиной, на нашей собственной, купленной в рассрочку земле. Мы дрались с соседскими земными! Всякое бывало, но в школе они уже признавали нас. Я подружилась с жеребчиком по имени Синегривый! Мы и сейчас пишем друг другу, только письма с попутными планёрами ну очень долго идут.
— Потише, глупые, — Джин попросила.
Крупно дрожа, она приблизилась к жеребцу и его кобылке, протянула копытце. Кивком он разрешил ей потрогать, и она коснулась: сначала горячего бока близняшки, раздувающегося в частом глубоком дыхании, а потом и большого выступа на её животе. Очень мокром, горячем и скользком животе, где вся шерсть спуталась комками. Джина отступила, не решившись дальше тревожить такую красоту.
Любовники сменили позу, продолжая теперь боком на коврике, где кобылка лежала в крепких объятиях, закинув свободную заднюю ногу на пояс жеребца, а он брал её под углом, проникая ещё глубже. Медиальное кольцо вжималось и продавливалось в щель, наружу выталкивая клитор, а выступ на животе смещался в сторону, сильно отжимая изнутри её правый, далеко оттопыренный сосок.
— Квинта, там на месте старого Хуфа строят большой город, а вокруг него уйму меньших городков. Там тоже было очень много погибших, там повсюду развалины, но теперь их сносят, а поля разравнивают вот такими огромными бульдозерами и тракторами. Они не такие сволочи, какими кажутся. Они знают, что у них много свободной земли, и раздают её всем, кто готов выращивать хоть что-нибудь. Потом эту кукурузу сушат, собирают на большие сухогрузы, везут сюда в Столицу и продают нам…
— Можно твой фотик? — Джин обратилась.
Чуть помявшись, кобылка убежала, а вернулась с большим футляром, из которого долго и очень осторожно извлекала новенький плёночный фотоаппарат. Джин шепнула: «Я умею», — но кобылка оторвала копытца только тогда, когда нос прижался к носу, а сама Джин дыхнула ей в лицо. Фотик красиво щёлкнул, когда она вложила свежую катушку с плёнкой; чуть сверкнул, когда настроила яркосвет на вечернюю вспышку; а затем принялся щёлкать снова и снова, пока она в каждой позе и под каждым углом снимала так красиво трахающихся друзей.
— Это не очень-то вежливо… — Арики фыркнула, да и снова обернулась к Квинте. — В общем, я к тому, что может, ты хочешь попробовать? Мы с папой поможем! Я напишу Льдинке. Там всё честно, там даже в Школу дружбы никого не заставляют ходить. Просто, ты так хорошо справляешься с нашим огородом, а там у тебя будет свой собственный. И свои почтовые гуси, которые будут летать с письмами для твоих друзей.
…
— А зачем тогда вы вернулись? — Квинта спросила тихо.
— Ну… так надо было. Здесь наш дом, здесь наша родина.
Кобылка повела взглядом, обернувшись к отцу. Тот кивнул.
— Ну, там нехорошее творится на границе. Наши нападают, они отвечают. Там тоже полно вояк, озверевших от безделья. И не все пони настолько добрые, чтобы терпеть прилетающие в Хуф ракеты. А вдруг яд? Вдруг жар-бомба? Сбивать удаётся не все и не всегда.
— Простыми словами, — жеребец поднялся, снимая с члена тихо заскулившую кобылицу. — Эквестрия хочет собрать своих сволочей, наскоро сколотить батальоны и услать куда подальше. Чтобы здесь, на краю мира, моча сожрала говно.
Арики поморщилась, а потом подошла, зубами выхватила фотоаппарат. Она спрятала его, но под злым взглядом отдала плёнку, после чего юркнула обмывать натрахавшуюся до одури сестру.
Жеребец продолжил:
— Мы не настолько предатели, чтобы смотреть за очередным геноцидом с той стороны. У нас есть поддержка, есть деньги от диаспоры. А я, единственный в Кладже, закончил в Эквестрии высшую офицерскую школу. Если слова не помогут, ополчение приграничных племён будет хорошим аргументом. А если и этого окажется недостаточно, что же, будем воевать.
Квинта молчаливо зависла, Арики пригорюнилась, а Джин сжимала в зубах пластиковую трубочку с плёнкой. И, честно, на эти разборки одних злодеев с другими ей было глубочайше насрать. Все такие серьёзные. Все сидят за большими чёрными столами и кричат: «Ты виновата! Ты помогала плохим!» — «Нет, хорошим!» — «Нет, плохим!» — а потом бьют, страшно бьют, пока не слезает шкура, вволю сливая в уцелевших всю накопившуюся злость.
В банде Горелых было такое испытание для новичков. Кто готов вволю потрахаться, а потом подраться — тот хороший. А кто, наоборот, сначала бычит — пусть идёт нахер. Это — плохой.
Квинта была исключением. А синеглазый жеребец рядом… наверное, неплохим.
Его, кстати, звали Нир.
* * *
Между тем жизнь продолжалась. Поднималось Солнце, и Квинта в толпе своих пернатых уже натирала кабачки; начинался полдень, и Тето выползала из дома, едва переставляя копыта, а жеребец подзывал её сестрёнку, чтобы вылизала блестящий на Солнце член. Приходил вечер, и они все вместе убегали за бобами к большому деревенскому тандыру, мазали арахисом ячменные лепёшки, засыпали в тыкву распаренный рис.
Квинта готовила вкуснейшую морковную соломку, Нир рассказывал истории, да и Джина, внезапно для самой себя, тоже начинала говорить. Она рассказывала о маме, которая курила до хриплого голоса и иногда кричала на неё. О других в племени, которых они с мамой любили побесить. О ребятах из банды, которые были хорошими со своими, но не очень-то добрыми к остальным. О городе, который снова загорелся, а потом все принялись искать виноватых, вместо того чтобы снести к пустынным гулям всю эту груду тухлых дощатых хибар.
Было местами грустно, но уже не до слёз. Нир поделился с ней своими книгами по полевой хирургии — жуть какими сложными — но Тето помогала переводить. Столько писанины, аж челюсть болит. Квинта начала понемногу учить эквестрийский, а Арики играла с ней в сложные понячьи слова. Наконец, то и дело пищала рация, а когда жеребца не было дома, им приходилось самим отвечать на шифровки и двигать по большой настенной карте булавки и цветные бумажные значки.
Синими были пони. Красными столичная армия. А зелёными — все окрестные племена полудиких окапи, алмазных псов и белохвостых котов. Здесь же, в штабе операции, они должны были сделать всех зелёных красными, чтобы синие одумались и не пришли.
А потом в эту идиллию влезли жеребчики.
У них ведь мышление простое. Красивая кобылка? Красивая. Экзотичная? Экзотичная. Ухоженная? Не то слово. С нежно спадающей на мордочку гривой, лоснящейся шерстью и завитым хвостом. Совсем не то, что местные замарашки. Значит интересная. Значит хочется. А вдруг научилась чему новому? Надо натянуть.
Жеребчики приставали — здесь это норма — но сестрёнка слала их к цветным чертям. Они упрямились, мол, это наше патриархальное право, но сестра лягалась, разбивая носы. Наконец, суженный заглядывал к жеребчикам, и они вдвоём подсматривали, как те красиво ласкаются, а тот, сверчками покусанный, который ещё полгода назад до визга драл сестрёнку, сам изгибается в копытах старшего жеребца.
От жеребчика до кобылки, у рейдеров, право же, недалёкий шаг.
Ага, в Кладже было два сословия: огородные окапи — которым тереть кабачки и вылизывать помидоры; и пустынные окапи — которых звали рейдерами, и которые отпугивали кошек, или указывали место зазнавшимся псам. Все жеребята сплошь были огородными, разумно предпочитая тыкаться друг с другом, играть в ракушки и есть вкусные пироги, а не бить боксёрские груши и стрелять из громких противопегасных винтовок, от которых уши сжимаются и начинают нестерпимо болеть.
Вот только огородные, ещё не значит трусливые. Наказание жеребчиков не отпугнуло. Все смеялись и бодались мордами, пытались утащить сестрёнку в кусты. И так день за днём, неделя за неделей, пока полумесяц на небе дважды не сменился полной луной.
— Они меня выебут, — упала Квинта дома, после очередного огородного дня.
— Зальют тебе спермы полную матку.
— Они вообще конченые, — сестрёнка лежала на ковре, широко раскинув задние ноги.
— Будут трахать тебя до рассвета, пока не приползёшь с белым следом по земле.
— Какого хуя вы терпите эту хрень?! — сестра вскочила, резко обернувшись, — Какого хуя… а?!
Она долго смотрела на жеребца, видно осознав его предыдущие ответы. Покраснела. Открыла и закрыла рот. А затем послышался стук в окно, показалась покусанная сверчками морда, и сестра прижала разом оба копыта к лицу; и упала, заплаканной мордочкой о подушку, хвостом закрывая залепленную пластырем щёлку, которую теперь ещё и прикрывала плащом.
— Почему ты не защищаешь меня?
— Честно? Ребят уважаю. Мне бы не понравилось, если бы близняшек забрал в личное пользование какой-то там взрослый хуй. Так и пользуемся по очереди. Писечки у них небесно хороши.
— Полный пиздец.
— Вежливость, Квинт!
Сестра стала чаще ругаться, да и жеребчики, подражая ей, тоже. А злодей со своими близняшками только ухахатывался, изредка предлагая им с сестрёнкой то потрахаться, то отчалить в Эквестрию — с которой, на секунду, два шага до войны! — то расслабиться, раздвинуть ножки и наделать местным жеребчикам кучу маленьких зебра-капи, которые вырастут здоровыми и сильными, и которых полюбят все.
— Я так не могу, — сестра вновь застонала.
— Да ладно тебе, тогда просто закинься противозачаточными и хорошенько всех обслужи,
— Грррр…
Рейдерский гловарь заговорил громче, подойдя к окну.
— Ребята взрослеют. Скоро им станет тесно в родном ущелье, настанет время повидать мир. Эти подростки научатся пробегать мили ночью, следуя привязанным к хвостам тусклым фонарям, а в полдень прятаться под засыпанным раскалённым песком плащом. Научатся пить из мякоти кактуса и сырыми есть пустынных сверчков. Научатся доверять жизнь друг другу и идти к общей цели изо всех сил.
Жеребец ухмыльнулся:
— Как думаешь, Квинта, какая у них общая цель?
— Повидать мир? — она простонала.
— Ха, громкие слова! Покрыть кобылок в соседней деревне. А самых красивых притащить домой.
Сестрёнка захныкала, сжавшись в большой полосатый клубок.
— Серьёзно, Квинт, назови хоть одну причину в наших жопах идти за тридевять земель? За тем же ячменём и арахисом? За медными бирюльками? За железяками, большинство из которых давно хлам? Или за славой и подвигами, которые спасут от деградации оба племени, а кроме того воспитают защитников из самых честолюбивых жеребят.
— Ебучие окапи…
Сестрёнка закрыла копытами уши. Мол, не вижу, не знаю, знать не хочу! Но жеребец только ухмыльнулся, подойдя к ней и положив копыто сначала на бедро, а когда она решила всё же не брыкаться, начал поглаживать чуть поблёскивающую влагой щель.
* * *
Он ласкал сестрёнку, продолжая говорить:
— Главное достоинство в том, что мелкие кобылки выносливы. Мало весят, немного пьют. Слушаются старших. Привыкли отдаваться всем и каждому, а их незрелые, но уже подготовленные петельки очень приятно ебать. Они хороши и для продажи, когда в племени излишек голодных ртов, и для манёвра ресурсами, когда есть шанс новые земли для себя застолбить.
— Прекрати…
— Это незабываемо, когда неделями следишь за соседним селением. Изучаешь всё. Их систему огня и наблюдения, устройство ловушек, лица проверяющих их кобылиц. И младших кобылок тоже, выискивая цель. С товарищами ты делаешь три управляемых планёра, долго правишь их и долго испытываешь, на каждый ставишь самодельный электродвигатель, передатчик, фонарь и искру. А старшие сначала смеются, потом присматриваются, наконец начинают помогать.
Сестрёнка подняла уши.
— Каждый планёр издали очень похож на кружащего пегаса. Они взлетают в сумерках, заходят по ветру с восходящего Солнца. Дымовые гранаты сыплются на село. В ответ стрельба, направленные взрывы шрапнели, алый и чёрный дым. А мы уже крадёмся вдоль дымной полосы. Оглядываемся. В суматохе никто не разбирает своих и чужих жеребят. Вот и кобылки в противогазах, которых ведут к убежищу. Узкий, увешанный редкими яркосветами тоннель. В конце которого местные жеребчики с единственной винтовкой, их ошарашенные рожи, и наши прекрасные трофеи, испуганно мычащие из мешков.
Уши сестры опустились.
— А дальше бегство, долгое бегство через пески и скалы, где мы чище пустынных кошек заметаем следы. И убежище, куда мы натаскали десятки корзин бобов и ямса, а из стены древнего грота бьёт солоноватый родник. Кобылки наши. От ушей до хвоста наши. И они смотрят большими круглыми глазами, правда не на нас, а на свежую воду и долгожданное рагу. «Это не по правилам!» — ноет самая храбрая, а я отвечаю, что хрена вам, правила здесь устанавливаем мы.
— Правила? — Квинта подобралась.
— Да. Не у всех же такие стальные яйца, чтобы как цёлочку разорвать оборону целого городка. Все ждут сезона, ждут своих кобылок на дальнем поле, за мешок ямса гоняют кошек. И смотрят в тихом бешенстве, как же жёстко они сосут у местных жеребят. Но если есть в обороне изъян, что же, сами виноваты. Все ваши кобылки принадлежат нам!
Сестрёнка задрожала, когда копыто жеребца начало ласкать её сильнее, далеко оттягивая розовые складки и поглаживая кромкой внутри. Его член быстро поднимался, а она, оцепенев, смотрела на него.
— Наши маленькие жертвы хнычут, конечно. Они к такому не готовы. Они такого не ждали. У них свои жеребчики в городе и нет ещё висящих с их «долгом перед общиной» старших кобылиц. Но я обещаю девчонкам незабываемые ощущения, а потом приношу большую тыкву и до синего оттенка засыпаю в неё эхион.
— Пряность? — Джин подошла ближе.
— Сильный энтактоген. В малых дозах его добавляют в пищу проблемным кобылкам. Да, Квинта, тебе тоже. Не считая той же аханты, которую дают понемногу, чтобы сдержать слишком ранний эстус у кобыл с недовесом. Вроде моих близняшек. Моя любимая, кстати, тоже была из таких.
Нежно массируя совсем поплывшую сестрёнку, он принялся рассказывать, как у испуганных кобылок сузились зрачки, а на мордочках появились поначалу застенчивые улыбки, как они несмело отвечали на поцелуи, а уже через неделю на спор заглатывали член самого крупного в банде жеребца. Как они кричали, принимая сразу по двое, а потом тянулись к тыкве с вином и коробке с лечебными зельями, когда неготовое к уже почти взрослым жеребцам влагалище начинало болеть.
Так-то в местных жопах считается, что для основания нового племени многое не нужно. Запас зерна — чек. Источник воды — чек. Хорошая банда рейдеров и пленные кобылицы — чек. Всё остальное приложится. Раньше так оно и было, когда над головами кружились пегасы с их хлор-фосгеновыми геноцидами, а кошки с алмазными псами подъедали целые города. Но времена-то изменились. Банду Кладжа сначала долго материли по рации, обещая развесить в клетках вдоль всей Долины озёр, а потом упрашивали вернуться. Найти-то не смогли.
Обычно находят. Обычно устроившиеся у поселения рейдеры гораздо нахальнее. Тащат кобыл с полей и дружно трахают, а те в ответ приносят им что-нибудь вкусное. Приводят своих дочерей, как только у тех начинается первая течка, а возвращают хорошо разъёбанными, большеглазыми и крутобокими. Наконец, воспитывают в должной атмосфере взрослеющих жеребят.
Как и тех, кто сам убегает к рейдерам в жажде приключений, так и других, кто отчаянно бесится, защищая любимых от чужаков. Военные учения сочетаются с игрой, игра с ревностью, а ревность с разбитыми сердцами, ранними беременностями и болящими крупами. Звереют все.
Наконец, рейдеры возвращаются, гордо ведя по Кладжу беременных кобылок, красные морды которых смотрят в песок, а на шеях поблёскивают украшенные медью ошейники.
Один из которых Квинта уже носила. Жеребец настоял.
— Пожалуйста, хватит, — сестрёнка попросила, когда член прижался ей о бедро.
Нир продолжил поглаживать.
— Тебе пора решить, сильная ты личность, или слабая. Я думаю, что пересилил себя, когда у этой рации умолял пони помочь любимой, пока та плакала, оставляя кровавые пятна, и никак не могла родить. Честно, Квинт, я не знаю, в чём твоя сила. Делай что хочешь. А если ничего так и не решишь для себя, то я сначала тебя отымею и оставлю рядом, если тебе понравится. Если не понравится, то отправлю в Эквестрию и договорюсь с Льдинкой, чтобы она оформила на тебя нашу с близняшками хижину и красивый участок земли.
— Правда? — сестра настороженно оглянулась.
— Сейчас ты спросишь. А можно ли как-то и обойтись без изнасилования, и домик получить? Думаю, можно. Но это будет уже сильным поступком. А выебать хочется. Подсказки я оставлю при себе.
* * *
Так закончился очередной месяц и потекли следующие, ведь в Кладже, как и вообще на пустошах местного хреноземья, никто не любил спешить.
Джин отобрала фотик у Арики и щёлкала сверчков в своё удовольствие, сестрёнка копалась на огороде, а её суженый всё сидел у рации со своими шифровками, пытаясь помирить люто ненавидящих друг дружку кошек и алмазных псов. Получалось плохо, так что он лютовал, а бедолаге Тето доставалось: то резким ударом хвоста по крупу, то членом, то окриком и ремнём. Вдоволь накричавшись и надрыгавшись копытцами она снова делала своего жеребца довольным, а Джин помогала ей.
Не писечкой, конечно. Она невзначай крутилась, поднимала хвост, но ему вообще было пофиг, даже не вставал. Ну, все такие. По крайней мере она могла помочь героической кобылке: то давая капельки обезболивающего, а то и смазывая натёртые места нормальной лечебной мазью, а не тем жалким «детским кремом», который с ромашками на тюбике, и который она привезла аж из понячьей страны. Пони, вообще, начисто ебанутые создания, раз используют для секса с жеребятами не густую и жирную основу для обезболивающего, а пустой водянистый крем. Впрочем, что с них взять.
Квинта чуть расслабилась, наконец-то поверив, что вот прямо здесь и сейчас её насиловать не будут. Не хочется, не нужно, да и вообще лениво. «Сама к нам попросишься», — отмахнулся жеребец, делая ей очередной эротический массаж. Которому она наконец-то стала полностью отдаваться: и раздвигая задние ноги навстречу его большому копыту, и подмигивая клитором в ответ на касания, и даже слегка посапывая, когда он гладкой кромкой приоткрывал половые губы и начинал ласкать щёлку изнутри.
До оргазма, впрочем, сестрёнку он не доводил, всегда оставляя страшно мокрой, красномордой и неудовлетворённой. И только ухмылялся, ничуть не скрывая, что в этом-то и заключается план.
— Хочешь стать рейдером? — однажды предложил жеребец.
— Винтовку дадут? Хочу! — офигела сестрёнка.
— Не хочет, — буркнула Джин.
Это замануха, разве не ясно?.. Как в столице. Мол, иди в имперскую армию — прославишься, разбогатеешь, повидаешь мир! А потом возвращаешься больным стариком с пятью дочерьми по всему свету, которые дружно треплют нервы; с женой, которая обворовала и сбежала, оставив на попечение чужого жеребёнка; и с тыквой вина вместо подушки, кроме которой тебе уже и не нужно ничего.
Сестрёнка накинулась на неё. Мол, заткнись дура, ты ничего не понимаешь! А жеребец признался: «Да, есть такая хуйня». Огородный окапи ещё может стать рейдером, а вот обратно — едва ли. Затюкают. Засмеют. Из рейдеров путь в один конец.
Квинта всё-таки попыталась, но неделю побегав по пустыне наравне с близняшками, свалилась у порога и на все вопросы только мотала головой. Мол, не хочу кактусов. Не хочу больше сверчков. Не могу, не буду, не хочу сверчков…
— Хочешь потрахаться? — предложил жеребец, делая сестрёнке массаж.
— Не хочу, помешанный.
— Забей уже на эти игры в статус. Я же вижу, как тебе нравится принимать заботу. Обещаю, что тебе дико понравится благодарить в ответ.
— Не хочу!
Сестрёнкиной возражалки надолго не хватило. Нир отправил близняшек с жеребчиками на очередные учения и занялся ею всерьёз. Он делал массаж, гуляя копытами по всему её телу, часто останавливаясь на сжатых ягодицах, а перевернув на спину поглаживая соски. Его член стоял колом, а с конца на живот сестры падали частые прозрачные капли. После массажа он её крепко обнимал.
Сестра дрожала, лёжа спиной на мускулистом жеребце, а его дубинка пульсировала сверху, от солнечного сплетения до груди смачивая шерсть каплями и в обе стороны отжимая напряжённые соски.
— Это нечестно, — бормотала Квинта, закусывая губу.
— Не бойся. Погладь его.
Она тянула копыта, осторожно касалась, а жеребец, дав ей немного привыкнуть, прижимал копыта собственными, заставляя водить вверх и вниз. Прозрачные капли ручейком стекали на шерсть сестры, неровная по краю шляпка пульсировала, а дальше ждало лишь небольшое сужение до медиального кольца и расширение к основанию. Как голень сестрёнки и как её бедро.
— Тебе нужна взрослая кобыла, — высказалась Джин.
— Наскучили. Мне нравится насиловать жеребят.
Скользко поглаживая сестру пенисом, он объяснял. Мол, у рейдеров богатый градиент мировоззрений: для одних насиловать жеребят, это хорошо; для других насиловать жеребят, это правильно; третьи знают, что изнасилование жеребят делает их сильнее; а четвёртым просто нравится насиловать жеребят. А чтобы удобно было насиловать, жеребята в Кладже общие, и живут своим дружным табуном.
Вот рождается пара близняшек, мило сосут молоко из бутылочки, тыкаются носиками ко всем взрослым вокруг. А те и не против, они до смеха облизывают близняшек длинными языками, расчёсывают частым гребнем, обнимают перед сном. Младшие жеребята собираются тоже, чтобы угостить вкусным рисовым шариком, или вместе в ракушки поиграть. Все знают, что это не просто соседские дочки, а две новые писечки в жеребячий гарем.
Языками их подготавливают, а как только кобылки сами начинают намокать и тянуться навстречу, затаскивают на большой пушистый ковёр. Так они становятся любимыми игрушками для младших, а потом и для старших жеребят, и рано узнают, что если хочется приятного, достаточно только подбежать к жеребчику, поднимая хвост, а потом за приятным следует ещё и угощение, и тёплые объятия на ночь. Ну и жеребчик тоже может захотеть приятного, тогда нужно лизать, проглатывая до последней капли, а потом сбегать за печеньем и уже самой угостить.
Одни хотят слишком многого, почти ничего не давая взамен. Другие отдают слишком многое, не думая о себе. Но жеребячий табун под присмотром взрослых для того и существует, чтобы первых стыдить, пока не поймут выгоду сотрудничества, а о вторых заботиться, чтобы берегли себя.
А ещё для того, чтобы жеребята с малых лет следили за здоровьем друг друга. Чтобы знали, как сделать массаж, прощупывая каждый лимфатический узел и каждый изгиб живота, поскольку только так и можно найти опухоль на ранней стадии. Чтобы часто и с удовольствием вычищали друг другу шерсть от паразитов. Чтобы предупреждали колики регулярным промыванием, а ещё лучше делились друг с другом хорошей разнообразной пищей, ведь не каждая семья может дать ребёнку здоровый рацион. Чтобы сказали родителям: «Арики болеет, пожалуйста спасите её». — и те, вздохнув, отдали бы половину урожая, и вся община сидела бы без ужина, зато с живой Арики и её счастливо ласкающейся ко всем взрослым сестрой.
Поколения жеребят в Пустоши долго сменяли поколения взрослых. Многие умирали, но оставшиеся научились выживать.
Общины выжили. Нуклеарные семьи исчезли как пыль.
* * *
Жеребята разные. У каждого свои дурости, свои хотелки и своя лапша на ушах. Если потереть копытом, они скорее чёрные, чем белые: скорее хотят владеть, чем подчиняться, и скорее насиловать, чем отдаваться другим. Они не клянутся в вечной дружбе — хрена там — они просто трахаются друг с другом, любят друг друга и не хотят любимые писечки от себя отрывать.
Ну а некоторые мечтают, чтобы их оставили в покое. А другие отказывают им в этом праве, ибо покой в этих жопах, это смерть.
— Эка меня торкнуло, — оставивший сестрёнку жеребец потягивал компот из тыквы. — Простыми словами, Квинт, попробуй представить себя частью общины, а не самой-по-себе писечкой выше других. Вдруг понравится? Вдруг зайдёт? Чтобы всё было честно, смотри…
Он вернулся от радиостанции, держа пару поблёскивающих пластинок в зубах.
— Я договорился с Льдинкой. Это твой временный паспорт в Эквестрии, а настоящий оформят, если ты возьмёшь наш дом, обещаешь следить за отныне своим владением и до двадцатилетия никого не убьёшь. Лучшего я предложить не могу.
Квинта взяла пару пластинок, оглядела. Одну протянула. Джин долго смотрела на свою фотографию. Изрезанную, истерзанную, пегую. А потом перевела взгляд на белые крылья аликорна наверху.
— Нир, ты же знаешь, — Квинта вдруг обратилась к жеребцу по имени. — Я не брошу отца.
— Нет уж. Я не отдам нашего единственного инструктора-артиллериста. Что я буду делать без него?
— Ты!..
— Ты прекрасно знаешь, что он тебе скажет и куда пошлёт. Если что, паспорт я оформил в обход его воли. Мне и так придётся месяц мириться не просыхая, после того что я сегодня натворил.
Он прижал копыто ей к груди, склонился ближе.
— Итак, девчонки, завтра прибывает попутный планёр. В добрый путь?
Квинта опустила голову и долго стояла так. Когда Нир ушёл — убежала. Сначала к гусям, затем в их запылённый фургончик поплакаться, потом к отцу на полигон. Но с ним так и не заговорила. Джин хотела напомнить, что, мол, «лучше смерть, чем к цветным» — но, чуть подумав, не стала. А что, если это тоже форма смерти? Полёт над родной пустыней; пегасы на крыльях большого планёра; зелёные-зелёные поля.
А что дальше — она не знала. Да и что сейчас, не знала тоже — по большей части ей было всё равно. Так и шла она за сестрёнкой от одного места к другому. Слушала, как та о чём-то неловко болтает с кобылами у большого деревенского котла; смотрела, как внезапно целует удивлённого жеребчика — хорошего и доброго, которого звали Кино — а потом обнимает его маленькую Люф. А на большой и неровной часовой башне движется стрелка, тянутся тени, начинается закат.
Всю ночь они сидели с друзьями на краю ущелья, свесив вниз задние копыта и бросая горящие хлопковые шарики на ветру. Люф что-то рассказывала, Кино тоже; потом прибежали близняшки, болтая о своём. А они с сестрёнкой больше молчали и ждали. Вот закончились сумерки; вот показалось Солнце; и вот с северной стороны на горизонте промелькнул синий огонёк.
К взлётной полосе зашёл фанерный планёр с четвёркой пегасов, приземлился, остановился у старого ангара, за которым возвышалось поле огромных тропосферных антенн. Заскрипел по песку кривой и косой погрузчик, загружая ящики с зебринской дурманящей травой.
Они смотрели, как Нир вышел на взлётную полосу, и разговорившись с пегасами терпеливо ждёт. Смотрели, как они пожимают плечами и прощаются, а наевшиеся местной перловки крылатые вновь поднимают планёр. Как его огонёк удаляется, чтобы прилететь снова через месяц, или чуть позже. Ведь и с той стороны мешают, и с этой стороны мешают, но взаимная выгода, пожалуй, объединяет мир.
Погрустневшая сестрёнка следом за ней возвращалась домой.
— Он прав, совершенно прав, — шептала Квинта. — Я не сильная. Я просто не могу. Я перестану себя уважать, если прогнусь вот так, накануне войны перебегая к врагу.
— Ты — сильная.
— А? — сестрёнка обернулась.
— Ты просто страшно упёртая. Я бы уже сто, тысячу раз под него нырнула. Показать тебе фоточки? Показать снова? Ты бы видела, какую охренительную жуть они там с Тето творят!
Сестрёнка поджала губы.
— Он её обижает.
— А ей — заебись.
Накопившуюся зависть прорвало. Когда они вернулись домой, Джин вытянула всю свою коллекцию фотографий и показывала их краснеющей сестрёнке одну за другой. Вот Тето сверху, и подтягивается на перекладине, а жеребец только слегка поддерживает её. А мускулы у неё просто потрясные. Вот Тето снизу, и дрожит в объятиях, а он берёт её снова и снова, нарядив в забавный костюм с крылышками и рогом на голове. А вот, где они оба кайфуют в вообще-то запрещённом для купания озере, наделав карабликов из дощечек и раскурив адмиральскую трубку на двоих.
— А твоя хвалёная Арики — тоже недотрога. Полизать может, потереться может, а чтобы подставить петельку, или хотя бы пончик, так нет. Жмётся. Чего-то боится. Или, кот знает, может у неё просто фетиш не на взрослых, а на кобылок, или на младших жеребят. Но она, блин, хотя бы попробовала. И не один, и даже не десяток раз!
Просто кому-то нравится, а кому-то нет. И не надо говорить, что, мол, кому-то и дерьмо из кружки хлебать нравится. Это другое! Да и вообще.
— Короче, или ты сделаешь так, чтобы он меня тоже выебал, или я нахуй убьюсь.
Сестрёнка смотрела на неё, открыв рот.
— Ладно. Забудь всё сказанное. Я не убьюсь. Слышишь? Не убьюсь! Просто наболело… Нахуй так жить.
Дожидаясь, пока Нир вернётся, они хорошо помылись и натёрли друг друга кунжутным маслом. Очень тщательно, в том числе и её саму. Ну а вдруг? Сестрёнка даже уложила ей гриву. А когда знакомые копыта застучали снаружи, Джин подтолкнула Квинту к жеребцу.
* * *
Осторожно сестрёнка приблизилась. Поднявшись на кромке копыт вытянула шею, заглянула Ниру в лицо. «Обидит, не обидит?» — Джин знала этот взгляд. И жеребец, наверное, тоже. Он положил большое копыто на затылок сестрёнки, снял её очки, притянул, поцеловал. Сначала просто в губы, затем со скользящим по сжатым зубам языком, и наконец заставив сестрёнку открыть рот. Неумело она сосалась, а жеребец показывал, как отвечать на ласки собственным языком.
— Теперь иди ко мне.
Он подвёл её к ковру, сам устраиваясь на спину, притянул к себе. Морда сестрёнки оказалась между больших как тыквы яиц, а задние ноги на плечах жеребца. Он прижался носом к её промежности, обернул хвост вокруг копыта; а затем одним сильным движением проник языком. Сестра вытаращилась на стену, широко открыв рот.
Джин дала ей деревяшку в зубы, чтобы не прикусила язык.
Квинта резко дышала, пока жеребец ощупывал её влагалище до самого предела. Принялась сопеть, когда обхватил губами клитор, а затем коротко, очень коротко застонала, что означало тот особенный миг. Её ноги ослабли, круп упал на грудь жеребца. А он продолжил вылизывать, крепко прижимая. Вскоре он заставил её кончить снова, сильно изгибаясь спиной, и снова, среди брызг выстреливая в неё длинным и сильным языком.
— Ау-ау! Больно! Стой!!!
Он не остановился, хотя и продолжил нежнее. Обхватив её, держа крепко, массируя бока — и плавно вылизывая, с каждым разом касаясь клитора шершавым кончиком языка, а затем проникая внутрь, но не так сильно и не так глубоко. Квинта тяжело и часто дышала, мотая головой.
Их взгляды пересекались, и тогда в глазах Квинты мелькало то особенное выражение. Рухнувшие надежды. Из всех фотографий она смотрела только те, где Нир с Тето играли. Не превращая секс в игру, а просто делая разрядку для утреннего стояка частью чего-то более важного. Обнимашки, шашки и карты, догонялки. Дикие гонки вдоль огорода и дальше в пустыню, откуда Нир возвращался покусанным, а Тето с гирляндой сверчков, весело болтающая копытцами у него на спине.
Сестрёнка смотрела на неё. «Я хочу другого. Скажи ему!» — это она говорила взглядом. «Я хочу именно этого», — возразил бы жеребец. Когда кому-то хочется, а кому-то не хочется — всё решается силой. Ну, или уговором, взаимной выгодой, или этим… консенсусом — когда все признают слабости друг друга и находят золотую середину, чтобы радовать больше, чем обижать. «А вы найдёте?» — хотелось спросить. Но Джин уже знала ответ: «Едва ли».
Может, самой для них поискать?
Всё было бы иначе, будь сестра уродиной на её месте, а сама она ухоженной кобылкой под красивым жеребцом. О, они бы устроили! Такое-то веселье! Такой-то кайф! А уродина рядом грустила бы, грустила, грустила — зачем-то предлагая сбежать. Наконец, она не вернулась бы домой: она бросилось бы с утёса, не выдержав одиночества. Такой характер, такая душа.
А ей самой — заебись. Можно даже взять фотик и ухмыльнуться сестрёнке, щёлкая её заплаканное лицо.
Не слушая возражений, Джин фотографировала её всю. И эту испуганную мордочку, и эти напряжённые бока. И клановую татуировку старкатерри, которую они сделали с помощью Нира; и тонкий, украшенный медью ошейник, который поблёскивал в заглядывающих из окна полуденных лучах.
И вот ласки становятся глубже, гораздо глубже. Вот на животе сестры проявляется рельефная точка, сдвигаясь то к правому, то к левому соску. Сотни раз сжимавшая зубы под очередным жеребчиком Квинта вдруг заскулила, бодаясь носом о яйца жеребца и загребая ногами ковёр. Точка давления на её животе сдвигалась дальше, пока на очередном взрыве брызг не скрылась полностью, а крик сорвался на единственную ноту, перешедшую в кашель со стекающими на яйца жеребца нитями слюны.
Тело сестры расслабилось. Закапали слёзы. Частые, глубокие вдохи следовали один за другим.
— А ведь не разработали толком. Слабаки, — жеребец оторвался, вытирая полотенцем лицо.
Джин приблизилась.
— Сегодня изнасиловать побоялись. Завтра понячьи мультики смотрят. Послезавтра нас пегасы ебут. Нахуй такое будущее, Джин?
Он обратился к ней?!..
— Я… не знаю.
— Я знаю, что ты прячешь скальпель. Ты храбрая умница. Коробку из под стола принеси.
— А? Сейчас.
Она бросилась к столу с радиостанцией, вытянула коробку с патронами, на что последовал окрик «Другую!», оттащила пулемёт и докторский саквояж. Наконец нашёлся длинный красный футляр с лентами, который жеребец тут же принялся открывать.
Шесть чёрных гладких штуковин лежали там. Один вибратор маленький, как у того картавящего жеребёнка, другие больше, больше, и ещё больше. Как у подростков, под которыми сестрёнка постанывала; как у сверчкового жеребчика, заставившего её плакать; и как у типичного взрослого, без которых обошлось; и, наконец, почти такая же массивная дубина, как у обнимающего сестрёнку жеребца.
А ещё там были ремешки, лямки, завязки — и поблёскивающие в свете лампы камешки искр.
— Для близняшек покупал, — жеребец объяснил. — Они были младше, так что до последнего дошли только за год. Признаюсь, что есть ещё одна причина, почему мы уехали. В Эквестрии безумно сложно насиловать жеребят. Все давят на диаспору, буквально все. И сверху, и со стороны соседних общин. Одни бесятся, будто это их детей обижают; другие умничают, так что приходится пояснять за нашу высокую культуру; с третьими помогает только вооружённый паритет.
— Мы беззащитные, — Джин пожаловалась.
Жеребец заглянул ей в глаза, поворачивая над собой оцепеневшую сестру. Теперь её заплаканная мордочка прижималась ему к груди, а ярко-алая щель с узкой открытой дырочкой легла над членом. Соки оставляли на его рельефе блестящие следы.
— Мы беззащитны… ну, в том смысле, что неравные. Ты обижать нас можешь, а нам нечем обидеть тебя.
— Принеси кобуру, пожалуйста.
— А?..
Оружие висело у пыльника на входной двери. Она принесла его, а потом и коробку с патронами, которые жеребец приказал зарядить. Это было глупо. Она всё равно не стала бы стрелять или размахивать лезвием, чтобы её убили потом как бешеную кошку, а сестра осталась бы одна. Джина объяснила это, но Нир только отмахнулся, мол, бери.
Поглаживая сонную сестрёнку он рассказывал, что тропосферная радиостанция, ретранслирующая передачи от укреплений Рокады-девять до самой Зебрики, это одно из главных сокровищ Кладжа, а пони по ту сторону границы постоянно слушают переговоры. Если будет плохо, достаточно только сказать. И да, они там настолько безумные, чтобы из-за одной умирающей кобылки и её кричащего жеребчика послать в возможную ловушку роту по уши вооружённых солдат.
— Это не помогает, — она поморщилась. — Лучше смерть, чем к цветным!
— Приятно, когда понимают. Мы беззащитны. Я раздам вам оружие, а лидеру дам право говорить на совете. Как думаешь, всё станет честнее, если жеребята начнут размахивать винтовками перед лицами тех, кто обижает их?
Джин заглянула в изучающие её глаза.
— У меня неполный взвод. Мы тянем полутысячное племя. Если создать ополчение, это даст нам ещё одну отсрочку перед бурей. Пони не склонны стрелять в размахивающих оружием детей. Я бы хотел, чтобы ты стала их лидером, потому что если что-то случится, ты не поведёшь их на смерть. Я помогу.
Невидимку в жеребячьи лидеры. Не смешно. Но она не знала что ответить, просто опустив взгляд и потирая между копытами револьвер.
Глава третья «Причина для войны»
* * *
Приближалась война, и это уже были нихрена не шутки. Планёрные маршруты закрылись. Совсем. Сначала с этой стороны кто-то пустил ракету, потом с той стороны вдруг поймали своих же пегасов, которые везли лечебные зелья в обмен на весёлую траву. Их разжаловали, вышвырнули из армии — и больше в Кладж уже никто не прилетал.
Начались помехи. Квинта включает рацию, готовится передавать, а с той стороны как заорёт:
Equestria, the land I love
A land of harmony
Our flag does wave from high above
For ponykind to see
Equestria, a land of friends
Where ponykind do roam
They say true friendship never ends
Equestria, my home
Да таким похожим на её собственный голосом, что в первый раз Квинта просто оледенела. Пришлось долго успокаивать, угощать солёной пшеничной соломкой, тыкаться носом в лицо. Не то, чтобы сестрёнка стала такой уж пугливой, просто боялись все.
В город привезли зенитные установки, чтобы защищать антенны. Они теперь стояли снаружи, эти довоенные чудовища, обыскивая небо выставленными на длинных кабелях радарами, и изредка шевеля многоствольными пушками из-под чехлов. Они смотрели вверх, но Джин всё равно боялась проходить рядом. Она видела, как такая штука убивает друга, просто распилив всю стену, и всех тех, кто прятался за ней.
А Нир радовался как совсем мелкий жеребёнок.
— Трусиха, глупая трусиха, — он шептал, обнимая сестрёнку. — Мы начинали со взвода, а теперь у нас и миномёты, и зенитная батарея. Подтянем кошек, и будет разведка. Вооружим псов, и будет полнокровный батальон. Батальон, что в составе бригады, а бригада в составе дивизии. Они не ждут такого противника. Они отступят и наконец-то покажут всему миру, что Эквестрия уже не то чудовище, какой была в довоенные времена.
Он начал больше говорить. Жесты стали резче, походка быстрее. Тето жаловалась, что ей уже не хватает десяти капель обезболивающего, да и с синяками на крупе не очень-то удобно ходить. Старшие кобылы тоже начали расспрашивать: мол, что это у вас кобылка такая потрёпанная? А вторая всё время какая-то дёрганная. А третья повсюду бегает в балаклаве. А четвёртая с во-от такими вот кругами под глазищами падает с ног.
Так надо, ёпт! Лично ей в балаклаве очень нравилось. Вуу! И уши закрываются шлемом. Вууу! И на груди щёлкает кобура. Вууу! И с коротким лязгом оружие уже на взводе. Крепление опирается о грудь, мушка перед взглядом, а правое ухо с петелькой уже готово дёрнуть спусковой крючок. Она часами стояла перед зеркалом, вскидывая и снова пряча револьвер. Сестрёнку это пугало.
— Слушай, Квинт, мне приходилось стрелять. Знаешь, какие у нас в туннелях были сверчки? ОГРОМНЫЕ! Такого и пуля не сразу берёт. А ещё они плюются. Блядь, как же они плюются. Пожар, плети, всё это мелочи. Я бы улыбалась себе в зеркале, если бы не блядские сверчки. Поэтому, Квинта, я тебя умоляю, если вдруг окажешься в туннелях второго бункера, выбрось свои очки нахрен, и хоть отдайся, но добудь себе забрало на шлем.
Круто звучит? Круто же?! Она ухмылялась сестрёнке, облизывая неровные губы, а та просто смотрела большими как блюдца глазами. Шлем она носила — если напомнить — но чуть какая пробежка, сразу же норовила стянуть. Мол, голова потеет, а грива потом как сосульки. Нир рассказывал ей об осколках, показывал фотографии, даже обещал дать в нос, если на учениях увидит без шлема; но всё побоку, так и носила за спиной.
Зато вечером, когда беготня на полигоне заканчивалась, они возвращались и все вместе падали в подготовленную старшими кобылицами большую горячую ванну. Ужинали они прямо там же, роняя в воду хлебные крошки и кусочки быстро расползавшейся жирными пятнами арахисовой пасты. Всем на всё было наплевать. Нир устало тыкался со своей любимой Тето, Арики просто вырубалась, а они с Квинтой, если не вырубались следом за ней, пытались тренироваться.
Когда сестрёнка наконец-то решилась на самое храброе, в один прекрасный вечер пристроившись перед своим суженым с хвостом за спиной, оказалось, что мокрой как водопад петельки и одного только упрямства недостаточно. Не влазит. Вообще никак не влазит — ни в одно отверстие, ни в другое. И так больно, и эдак больно, а стоит чуть посильнее надавить, уже хныканье и слёзы рекой.
Облом? Облом. Так и сидела Джин со взятой у Кроки видеокамерой, уныло наблюдая, как сестрёнка пытается вылизывать, но даже в рот без кашля не может принять. И ведь старалась, не то что с теми жеребчиками, действительно старалась! Но маленькая, узкая, не получалось ничего.
— Да ладно тебе, недотрога, — погладил её Нир, когда сестрёнка совсем расплакалась, размазывая по щекам откуда-то раздобытую тушь. — Ты не представляешь, сколько Тето тренировалась, чтобы достойно мне послужить.
— Я буду! Буду тренироваться!
— Так вперёд.
Лично тренировать он поленился. Тето вежливо предложила, показывая, как на бёдра натягиваются ремешки, и массивная чёрная штука колышется под животом. Она поглаживала вибратор копытом, едва заметно улыбаясь, масло капало на пол. Ну а Квинта… это Квинта. Чуть подёргав ушками она решила вежливо отказать.
Впрочем, спустя месяц мучений с боксёрской грушей, скамейкой, скалкой, баклажанами и собственными копытами, сестрёнка прибежала просить помощи. Нет, не у Тето, а у неё самой. Теперь они с Квинтой страдали вдвоём.
— Ммм… да не раскачивай ты так! — ныла сестрёнка под снарядом. — Да больно же, говорю!
Фигу там. Больно ей не было. Когда этой полосатой больно, она поджимает уши, а когда включает нытика, тогда уши торчком. Они сначала пробовали тренироваться, как предлагала Тето, но получилась хрень полная. Кобылка на кобылке, и одна тыкает в другую — цирк ёбанный. Джин отказалась. Вместо этого она приспособила здоровенную боксёрскую грушу на тросе вдоль пола, а к низу этой груши крепко привязала вибратор. Не самый большой. И даже не просто большой. Но нытья всё равно было столько, что уши начинали болеть.
Она раскачивала боксёрскую грушу, а мокрая до копыт и крепко привязанная к лавке сестрёнка изгибалась. Страшно елозила крупом, так что как в тире грушу приходилось нацеливать; страшно брызгалась, так что каждый раз приходилось бежать в душ; и страшно пугала местных жеребчиков, которые каждый день подсматривали в окна и спрашивали: «За что она наказана?» — а когда узнали, что это её собственная поникапина идея, попытались избить.
Вот сверчками искусанный кричит: «Да ты там вообще охренела!» Он поднимается на дыбы, копыта летят ей в лицо. И она отступает, оборачивается, одновременно с ударом копыт о круп бросается наутёк. Она бежит, со всей дури, так что вокруг мелькают кукурузные початки и акации, а четвёрка жеребчиков следом. «Стой!» — они орут. «Хрена вам!» — она в ответку. И стоит чуть отвлечься, как копыто оказывается в ямке между камней.
Хруст, боль, падение. Не вывих, и даже не трещина — просто несильная боль. Она встаёт, снова бросается бежать, но уже не успевает. Удар по крупу, хватка на шее, и она снова падает. Дрожит, пока жеребцы прижимают, едва позволяя дышать, а потом немного приподнимается, откинув хвост на спину.
Она знает, зачем жеребчики гоняются за кобылками. И она не против. О, святые слоупоки пустыни, она вовсе не против! Хоть немного внимания. Хоть от кого-нибудь. И эта страшная, страшная обида, когда ты лежишь враскоряку, а жеребята просто уходят, посмеявшись: «Да нахуй её».
— Банан-банан-банан!!!
* * *
Это было идеей Нира: волшебные слова, чтобы остановиться. У сестрёнки это был «банан», у сверчками искусанного «снежинка», у Кино «выдра», у Люф «сапсан». Арики задирала нос, а Тето ответила просто, что не нуждается, как не нуждалась и она сама.
Так или иначе, сначала волшебные слова разошлись среди жеребят Кладжа, а потом, после нескольких травм на тренировках, их стали использовать и там. Если жеребчик кричит «снежинка-снежинка-снежинка» — значит всё, гонка прекращается, а жеребчика нужно обнять, вынести с полигона, накормить вкусным и остаться рядом на ночь. Потому что это уже не обычное нытьё местных нытиков, а реальный, нешуточный предел.
Она часто вызывалась посидеть рядом, заглядывала в глаза. Обычно очень пустые, с крошечными как точки зрачками. Обманывали — немногие. Но и те, кто так убегал с тренировок, вообще-то, тоже здорово нуждались в поддержке. Серьёзно, кому захочется остаться огородным, когда все кобылки в ополчение ушли?.. И как-то так получалось, что её расспрашивали, а она отвечала. О подземельях и трущобах столицы, о ребятах из банды, даже о маме; а потом слушала истории других.
Сверчковый, к слову, сам был из столицы. Его продали маленьким, как и её саму. Пепельногривый Кино, уже не главный среди жеребчиков, недавно потерял младшего брата, а теперь незаметно для остальных влюблялся в любителя сверчков; а его маленькая Люф вообще ничего не чувствовала в сексе, только вздыхала и говорила, мол, «как земля».
Когда тренировки на полигоне заканчивались, Нир собирал их в большой комнате «Дома забав», где ставил стол с картой, камешками и бумажными фигурками. Это называлось тактической задачей — и они должны были не соревноваться, а вместе её решить.
— Итак, у нас танковый взвод в районе озера Тихое…
— У нас нет танков.
— Будут! — Арики сверкнула глазами. — Нам нужно провести взвод мимо Долины озёр и до самого Кладжа, чтобы крылатые не засекли. Вот здесь, по линии Рокада-четыре у них планёр с радаром кружится, вот тут они пытались подкупить кошек, но чуть ненароком не съелись. А вот здесь у самого озера Тихое как-то слишком… тихо. Могли и подкупить.
А если на секунду представить, что танки настоящие? Что их и правда нужно провести по маршруту, ведь Нир недавно распоряжался и о топливе, и об оборудовании ангара для подвижной мастерской; а старшие кобылы что-то всё копали и копали, ругаясь, что на ужин всем назло будет овсянка, а баню, для разнообразия, могут и жеребята организовать.
На экзамене Нир не признавался, какая задача настоящая, а какая просто игровая. И как-то расхотелось играться, после того как псы во главе с Жирдяем на весь батальон орали: «Кто вообще подпустил этих мелких сучек к рации?! Куда они наших щенков завели?!»
Щенков они вывели. Как завели, так и вывели! Нерадостных, но живых. Правда личной ей досталось от Кроки когтями по морде. Командир, всё-таки, а командир должен отвечать за дурость своих бойцов. Наверное она была очень плохим командиром. Она просто слушала и не мешала, и лезла со своим мнением только тогда, когда чувствовала за плечом то особенное касание. Вроде как копыто друга, которое останавливает, а потом с потолка тоннеля валится огромный, развороченный пулями сверчок.
«Чуйка», — так называл это Нир.
Он говорил, что они должны очень хорошо учиться, чтобы эта «чуйка» работала и на карте. Потому что все могут бегать с винтовками, а считать, писать и читать карты способны далеко не все. А ещё он часто повторял, что им не стоит бояться эквестрийских офицеров — они идиоты. Чисто из-за болезней, убогих родителей и плохого питания. Кроме тех младших, которые не старше них самих.
— Ребята, вы не сечёте, — Арики выступала перед всеми. — Они мыслят точно так же. Это такие же как мы дети рейдеров, которые всей ордой ломанулись в армию за красивыми мундирами, винтовками и халявной едой. Они. Такие же. Как мы. Их ни разу не накрывало огневым валом фронтовой артиллерии, они не видели наступления танковой армии. Их предел, это драка рота на роту, потому что нет сейчас у Эквестрии такого противника, с которым не справился бы единственный батальон.
Ага, у Арики был фетиш на военную историю. Все эти тысячи танков, миллионы бойцов, бесконечные ряды окопов, укреплений, рокад. Сама Джин в последние месяцы много читала, и открыла для себя тоже немалое. Эквестрия уже не казалась смесью ада и рая, а родные пески каким-то там «Хреноземьем», где кое-как выживают никому не нужные окапи, да и столичные зебры не очень-то радостно живут.
Столица называлась Рокада-девять — укреплённый район десятой танковой армии Железного легиона. Параллель Кладжа и Долины озёр, это Рокада-шесть — опорные пункты семнадцатой армии Союзников и резерва фронтовых средств связи. Бесконечные белые дюны, обгоревшие каменные столбы и ущелья, где на высотах торчат искорёженные антенны, а в песках до сих пор можно разглядеть длинные цепи давно застывших гусеничных машин.
Рокада-один, Рокада-два, Рокада-шесть и Рокада-девять — не просто так назывались. Может, им стоило бы гордиться, что они родились и выросли в пустыне, где пролегала линия фронта между двумя огромными империями? Где бродячих гулей столько, что вместо телег товары возят дирижабли; а сверчки — проклятые сверчки — буквально за минуту могут заклинить танковые шасси.
— А может пылевой бурей прикроемся? — предложил любитель сверчков.
— То есть?
— Ну, на следующей неделе синоптики обещают. Смотрите, мы не пойдём вдоль ручья, не пойдём и через перевал. Там наверняка наблюдатели. Мы сделаем большой крюк с запада вокруг Феникса, а дальше по Рокаде-три и прямо через пустыню. Третья рокада у понях в такой заднице, что если кого и встретим, нас примут за своих.
— За своих?! — Арики офигела.
— Покрасим вас с Квинтой в розовый. Разрулите, если что.
Вот теперь офигели все. Призадумались, и снова офигели, а сверчковый всё расписывал и расписывал свой план. Мол, если и поймают, то первыми в неизвестно чьи танки стрелять точно не будут. Перемирие же, все дела. А то, что поймают, это такое «если», как искать иголку в стогу сена, когда у тебя на фронт в полсотни миль единственная эскадрилья пегасьих планёров и единственный пехотный батальон.
Другие застонали, прижимая к мордам копыта, кто-то предложил отправить щенков. Но нет, Квинта, просто нет. Может показаться, что раз у командира морда кривая, то и когтистой лапой получать не больно. Хрена там — больно. И очень стыдно. Лучше уж сверчки.
Со слабой надеждой Квинта оглядывалась, но никто ничего лучшего не предложил. Все погрустнели, натянули шлемы, да и пошли к его сиятельству на поклон.
Вскоре вокруг была только пустыня, пустыня и ещё раз пустыня. И круп едва волочащей ноги Квинты впереди.
* * *
Есть у сверчков и достоинство. Они вкусные. Реально вкусные. Слава генетикам древности, которые думали о потребностях простых солдат!
Они сидели кружком вперемешку с танкистами, передавая сверчковую палочку от одного полосатого к другому, слышался негромкий хруст. Костерок был крошечным — топлива-то много не захватишь — но им хватало, а если поставить танки ромбиком, а по краям сопровождавшие их грузовики, то можно обтянуть всё брезентом, и вездесущий песок почти не будет мешать.
К бедной Квинте как всегда приставали, но вот по носу кому-то досталось, а близняшки объяснили, что здесь красивых писечек пол-взвода, и эти писечки уже на всё готовы, лишь бы только железных страдальцев до Кладжа дотянуть. Танки, как оказалось, ломаются. Каждые несколько часов! У них слетают траки, забиваются воздухозаборники, теряются те резиновые хреновины, от сверчков прикрывающие шасси. Плохо, к слову, прикрывающие, так что всё равно штыками приходилось очищать.
Спрашивается, нахрена танки пехоте, если они настолько бесполезная хрень? Да уже наплевать. Это символ их достижения! Спустя десять дней, двадцать часов и сорок шесть минут бесконечного страдания, будущие рейдеры уже обнимали танкистов как своих трофейных кобылиц. И они дотащили их. Когда впереди показались тропосферные антенны Кладжа, они молча сдали зебр с их танками поджидающим кобылам, доползли до жеребячьего барака, с огромным волевым усилием помылись, прощупав друг друга, и упали. Кто с кем стоял, кто с кем был.
Джин проснулась ночью. От того, что кто-то её крепко обнимал.
— Квинт, а знаешь что, — она прошептала. — Я раньше не говорила этого, но я так тебе благодарна. Спасибо, что спасла меня. Спасибо за ребят. Будто вернулся кусок души…
Она ощутила касание о промежность — что-то горячее и твёрдое прижималось к ней там. И это совсем не было похоже на копытце квинты, скорее на один из её вибраторов, только очень тёплый и мокрый на конце. А потом он нашёл свою цель.
Она не была готова. Она была как пустыня сухой.
— Не уходи, — попросила Джин, крепко жмурясь. — Пожалуйста, не уходи.
Осторожно она приподняла круп, чтобы жеребцу было удобнее. Он так щекотно тёрся о неё, заставляя петельку приоткрываться. Очень щекотно, и как назло слишком редко касаясь самого чувствительного места; но вот она протянула копыто под животом, вжалась кромкой в клитор. И стало мокрее, стало теплее, а крепкие объятия жеребца прижали её ещё сильнее, подтягивая к себе.
Все знали, что она девственница. Все видели это, когда помогали друг другу мыться, чистили шерсть от паразитов или делали массаж.
Жеребец вскрыл её единственным движением, но не остановился на этом, а всё толкал и толкал себя дальше, пока не коснулся конца. И вдруг она разом всё ощутила: и резкую боль в разорванной начисто плевре; и щекотку, с которой о клитор трётся медиальное кольцо; и это дикое чувство растяжения, поднимающееся по всему её узкому туннелю, чтобы после короткого касания о дальнюю стенку вернуться назад.
Щекотно. Забавно. Страшновато. И чуть больно, когда о ранку трётся медиальное кольцо. Но ей было плевать, совсем плевать на эти ощущения: нечто до жара тёплое поднималось в груди.
— А у меня тянучки есть. Держи! — она потянулась к своему рюкзаку, быстро открыло кармашек.
Четыре слипшиеся конфеты — за танки. И ещё четыре — за грузовики. Первые она собиралась назло всем съесть сама, а вторые разрезать на маленькие кусочки, чтобы хватило на всех. Но, хватит, жадность отменяется! она протянула жеребчику две танковые конфеты, а потом, чуть подумав, и третью из них.
Четвёртой тянучкой жадно зачавкала сама.
И, дракон, как же это было весело. Жеребчик натягивал её, тыкаясь в уши липким концом тянучки, а она старалась подмахивать в точности как Тето. Получалось так себе, но ему, похоже, нравилось. А она сама кайфовала от вкуса манго, киви, апельсинов — и кучи других южных штуковин, которые с картинки не разобрать. Он целовал её в уши — вернее пытался целовать, не выпуская конфету, и бедная грива превращалась в липкие комки.
Внутри стало мокро, очень мокро. Бьющая о член кисточка хвоста вся слиплась, а на лежащий под её брюхом тюфяк текло. Вскоре начались удары, мягкие влажные удары яиц о бёдра, и это особенное чувство, когда клитор зарывается в шерсть на основании пениса, ощущая разом и её грубость, и искорками бьющую теплоту. Джин заёрзала под жеребцом.
— Ребята… вы чего?!
— Квинта, — Джин глубоко вдохнула. — Ради нашей дружбы. Молча смотри!
Сестрёнка задохнулась, зашипела, засопела. Но не сказала ничего. А она уже чувствовала, как член жеребца пульсирует чаще, прямо как удары её сердца, растягивает ещё глубже — и вот он воткнулся по самые яйца, а жеребчик всей четвёркой копыт обхватил её. Она ощутила это — горячую струю, бьющую ещё глубже, в тонкую дырочку на её последнем пределе, а потом вторую струю, третью, четвёртую — заполняющую всё внутри. И ручеёк её собственных соков, щекотно стекающий по бедру.
Они долго лежали обнявшись, восстанавливая дыхание. А когда его член начал опадать внутри и выскользнул, Джин осторожно обернулась сама. Крепко жмурясь, она тоже схватила своего жеребца всей четвёркой копыт, и только потом открыла глаза.
Ночь была тёмной, но не настолько, чтобы не разглядеть.
— Привет, Кумо, — она широко улыбнулась.
А потом вжалась сверчковому мордочкой в грудь.
* * *
Она его не отпускала, да и он тоже, сжимая её со всей силы. Так и валялись они вместе, сцепившись давно затёкшими копытами и чувствуя, как липкие лужицы на бёдрах подсыхают, накрепко спутывая шерсть.
Кумо повторил заход, а потом ещё раз. Они съели вместе ещё две тянучки из второй пачки, а после третьего захода рассосали предпоследнюю на двоих. Это было так забавно, облизывать конфету и видеть, как морда жеребчика приближается, приближается и приближается, а когда последний кусочек тянучки тает, губы касаются губ. Языки сплелись чуть болезненными витками, и не расцепляя их они принялись облизывать друг другу губы, щёки, носы.
А он красив. Сверчковые ожоги его не портят, а просто идут вдоль груди, шеи и мордочки частыми пятнами побелевшей шерсти. В короткой гриве тоже есть белая прядь. А ещё умён — ведь умный пони берёт в подземелье хотя бы соду, а глупая страдает, визжа и промывая ожоги собственной мочой. Правда она — не глупая, просто когда позади выстрелы и крики, а впереди сверчки, она выбрала сверчков.
Но всё равно поймали. Поймали всех.
Ну, кроме тех, кто не пошёл в банду. А просто жил себе, никого не трогая, ловил себе сверчков на ужин, торговал сверчковыми палочками на рынке. И она тоже подбегала похрустеть, правда никогда не платила, а только с вызовом заглядывала в глаза.
— Перед Квинтой извинись, — она попросила.
Жеребчик фыркнул.
— Прости, что отбирала честно добытых сверчков. Прости пожалуйста. Так лучше?
Она напомнила, что Квинта не виновата, что его продали сюда. Это те сволочи виноваты, которые обосрались, а потом всех с Рынка принялись продавать. А Нир тем более не виноват, что умный такой, и насколько хватило искр закупился жеребчиками. И вообще, здесь никто не ниже и никто не выше, и они дружно дадут по носу тому, кто посмеет назвать другого рабом.
Жеребчик плавно вышел, поднимаясь на чуть нетвёрдых ногах. Покрасовался: показывая ей окровавленный, поблёскивающий в первых лучах рассвета, и снова окрепший член. Затем юркнул на лежанку к чуть дрожащему полосатому клубку.
— Прости пожалуйста, что насиловал тебя, — он извинился.
— Не прощу.
…
— Снова изнасиловать?
— Ммм… давай.
— Эй!
Охреневшая Джин видела, как они там завозились. Жеребчик неловко улыбнулся, да и уткнулся мордой в полосатый круп сестрёнки, а она вдруг обхватила его бёдра копытами и принялась вылизывать, да так тщательно, будто это тянучка, а не покрытый кровью жеребячий член.
Джин вдруг почувствовала себя обманутой. Сжала губы, отвернулась. Долго слушала сопение сестрёнки, а потом её лёгкое скуление, мол, «не кончай в меня». «Серьёзно?» — тот спросил. И та, чуть подумав, буркнула, мол, ладно, «в рот можешь и кончить». Жеребчик пообещал ей замечательных жеребят, и сестрёнка снова заскулила. Он пообещал любовь до гроба, и скуление перешло в сопение, а потом в короткий негромкий вскрик.
Жеребец вернулся.
— Ты?!.. — Джин аж айкнула, когда он сходу вошёл в неё. Обхватил. Прижался. — Ты… в неё не кончил?
— Неа, лучше в тебя.
Лады. Обидкам — отмена. Пора признать, что к ней просто тянутся странные не-как-все полосатые, а после них такие же странные жеребчики. Которые совершенно не умеют извиняться, а в голове у них столько сверчковых опилок, что мозги не разглядеть.
— Я буду главным, — жеребчик похвастался.
— Хрена с два.
— Буду! Я танки притащил! — он рассмеялся, снова насаживая её сильно и глубоко.
Жалости в нём — ни капли не было. Жалость, это не про местных жеребчиков. Но было что-то особенно приятное, когда соски трутся о мокрую шерсть его живота; когда хвосты сплетаются витками, а его ноги сильно разжимают её собственные. Когда его нос вдруг утыкается в губы, а яркие золотистые глаза смотрят на мордочку, не отводя взгляд.
И да, ей хотелось спросить; «Что с тобой не так? Зачем тебе сдалась эта уродина? Ты чего-то хочешь от меня?» — но его глаза не были глазами того, кто что-то там хочет. Нет, это был взгляд рейдера, который берёт заслуженный трофей.
— Только не говори, что у тебя фетиш на девственность.
— Ну… не скажу, — он покраснел.
Да и наплевать. Как говорили ребята: «Живи ярко, завтра всё равно убьют». И она обняла своего жеребчика ещё крепче, уткнувшись носом в довольно красивую, короткошёрстую мускулистую грудь. Они сделали друг другу приятно, а потом снова, пока внутри не стало слишком уж сильно болеть. Она сбегала за ведром и трубкой, устроилась поудобнее, и послала к пустынным гулям просыпающихся ребят. Мол, сами идите к Ниру с отсчётом, сами завтракайте, сами разминайтесь. Поняхам, вон, полагается целый медовый месяц, а вы отъебитесь хотя бы на день.
Квинта не спешила уходить, и тогда они её дружно прогнали.
А потом была горячая ванна с плавающими на воде пятнами кунжутного масла, тёплые движения внутри и тёплые объятия. Особенно приятный, ни с чем не сравнимый массаж; и хохочущий в её копытах жеребчик, которого она тоже ощупывала, поглаживая самые чувствительные места. Слишком вытрахавшийся, чтобы продолжать, он играл с её щёлкой небольшим вибратором, не заталкивая его внутрь; а когда они вспомнили, что ещё осталась одна не оттраханная дырочка, сама Джин нацепила под живот штуку побольше и все эти бесчисленные ремешки.
Впрочем, ему это не понравилось. Тыкаясь носом о её шею Кумо признался, что это не весело, когда тебя доминируют, а хочется доминировать кобыл.
Их игра прервалась скрипом двери.
— Кто бы там ни был. Отсюда и нахуй.
Нетвёрдые копыта застучали о пол. Одинокая кобылка проковыляла к своему спальнику. Споткнулась. Упала. Да так и осталась лежать на ковре.
Тето… выглядела уставшей. Она посапывала, пока они её отмывали от спермы и пота; чуть сжималась, пока трубкой прочищали её отверстия и длинной ложечкой смазывали влагалище лечебной мазью. У неё добавилось свежих синяков, но не тех, которые от ударов, а которые от растяжения мышц и слишком сильных объятий. Обычно она их присыпала неярко-кирпичной пудрой, чтобы никто не замечал.
— Не, это нездоровая хуйня, — высказалась Джин.
— Ага. Всё жду, когда с неё железобетон посыплется, и наша Тето наконец-то станет нормальной кобылкой, — жеребчик почесал репу. — А что, если у неё внутри один только железобетон?
Серьёзно. Это нездоровая хуйня, когда железобетонная кобылка до одури трахается с термобарическим жеребцом. Так и лопнуть недолго. А лопнувшая кобылка, это… бррр, лучше обойтись.
Давайте честно признаем, что наш светозарный вождь и учитель вовсе не святой. А нормальный, честный рейдер, как и мы с вами. Он тоже любит стрелять по пегасам, тырить столичные танки, закупаться рабами — ну и гордо, не стесняясь, насиловать жеребят.
* * *
Вечером они уже сидели впятером, разведя костерок у опоры тропосферной антенны. Сверчковый Кумо жарил своих любимцев, Тето зевала, а Нир с Квинтой настороженно поглядывали то друг на друга, то на них двоих.
— А вообще, зачем нам решать проблему качественно, когда можно решить количественно? — вспоминая стиль мамы рассуждала Джин. — У нас десять жеребят при штабе и ещё двадцать во взводе связи. Давайте просто добавим к курсу обязательных тренировок вибраторы, а одно изнасилование в месяц никого не испугает.
— Банан-банан-банан.
— Двадцать девять жеребят.
— Снежинка-снежинка-снежинка.
— Двадцать восемь, — Джин широко улыбнулась. — Это всё равно уйма неоттраханных дырочек! Нежных и тёплых, ждущих внимания, верных тебе.
Искоса взглянув на Тето — ударит, не ударит? — она подкралась к старшему жеребцу. Нос прижался о бедро, вдыхая лёгкий аромат листьев буресвета, которыми его одна очень тихая кобылка каждый раз натирала, делая массаж. И нет, Тето не ударила, а только оттащила зубами за хвост.
— Мы не лезем на твоё место, — Джин отступила. — Просто… обнимите нас. Мы любим вас.
Она заготовила длинную речь, но едва начав в стиле мамы, поняла, как же это глупо. Поэтому просто подсела к Тето, а потом, с её разрешения, начала гриву перебирать. Зубы скользили по холке, и эта сильная, мускулистая кобылица чуть дрожала.
Иногда Тето отвечала, почему всегда так молчит: «Мне нечего сказать». А когда спрашиваешь о её любимом, широко улыбалась: «Он спас Арики. Он всех спасёт». А ещё она была не очень чувствительной, вроде Люф, но если та только вздыхала, то Тето научилась кончать особенным способом. Очень сухо и очень ярко, до дрожи всего тела и счастливых зайчиков в глазах. Правда страшно при этом уставала, пробегая свой ночной марафон.
Сложно с ними. Сложнее, чем провести танки из точки «Ай» в точку «Бэ».
— Давайте думать вместе, друзья. Как насчёт того, чтобы насилуемую спеленать и заткнуть кляпом, чтобы была просто петелькой и пончиком. А вы целовались и обнимали друг друга, зажав её между собой. Оу, Тето… — Джин подскочила. — Тебе же хотелось подучить Квинту с вибраторами!
— Банан-банан-банан!!!
— …Вы могли бы трахать насилуемую в два смычка!
Нир с дочерью переглянулись.
— …Просто врываться к нам, и тащить кого захотите. Натягивать, ласкать, обнимать. А мы будем дрожать и гадать, кого заберут следующего, слушая ужасающие крики за стеной.
Жеребчик отступил от неё, Квинта отскочила. А в глаза заглядывали две пары восторженных глазищ. Её подхватили, обняли, прижали к пахнущей буресветом шерсти. Тето шмыгала носом, а жеребец просто гладил вдоль позвоночника, то легонько касаясь холки, то поглаживая основание хвоста.
Он назвал её «гением»! Волшебным духом стихии! А потом сравнил своих кадетов с разноцветными поняхами и объявил, что те просто букашки. Он рассказал, какое же гадючье гнездо, эта Хуффингтонская военная академия; где нельзя ни потрахаться толком с другом, ни недруга как полагается наказать. Границы, границы — ебучие границы, которые портят эквестрийским бедолагам жизнь, лишая лучшего средства насилия, воспитания, организации общества. Стало быть, хуя доминантного жеребца.
Он потыкал её кромкой копыта в нос. Обнюхал гриву. Щекотно лизнул.
— Ты растёшь хорошей, правильной окапи. Я горжусь тобой.
Джин широко улыбнулась.
— Будешь первой насилуемой?
— А то!
…
— Снежинка… отменяется, — рядом пристроился любитель сверчков.
Квинта долго размышляла, тёрла нос, морщилась. Но всё-таки не отменила свой «банан». А они и не против. Нир её тепло обнял, поглаживая копытом влажную щёлку, да и принялся рассказывать, что есть границы, а есть пределы. И если касание о чужие границы, это суть жизни в обществе, то за разрушение пределов нужно сурово наказывать. Меньшей болью, чем была нанесена, но всё-таки наказывать. Ибо общество, где границы сближаются, это общество свободных, а общество разбитых пределов, это общество рабов.
Квинта убежала.
— Думаю, нам нужно просто привыкнуть, — Нир пожал плечами. — И да, отлить памятник тому жеребчику, который её однажды раскрепостит.
Они помолчали, пока жеребец подтягивал к себе жеребчика, а задумчивая Тето смазывала кремом сначала один, а потом и второй, вдвое больший член. Это был особенный крем — по её собственному, поникапиному, рецепту. Очень густой, чтобы замедлить темп слишком уж резкого жеребца; очень скользкий, чтобы было приятно; и с крошечной каплей перечной эссенции, чтобы каждое движение мягким жаром отдавалось внутри.
Жеребчика подтянуло, задние ноги закинуло к плечам. Чтобы не вырывался, правое копыто привязали к правому, а левое к левому, а потом прикрепили к длинному, закинутому за холку шесту. Обездвиженный жеребчик — это красиво. Обездвиженный на фоне могучего жеребца — красиво вдвойне. И они на пару с Тето залюбовались, как один подготавливает другого, мягко поглаживая по бокам копытами, а пенисом по животу.
— А сколько ты стоил? — неожиданно спросила Тето.
— Тринадцать искр.
Дорого. Почему-то жеребчики всегда стоили дороже кобылок. И, если вдуматься, это несправедливо: ведь у одних две дырочки, а у других только одна. Хотя, она сама отдала бы за Кумо гораздо больше. Отдала бы всё! И фотик, и парадный мундир, и медную медальку с танком и большим сверчком. Наверное, если всё это продать в столице, можно было бы купить ещё одного жеребёнка. Совсем негодного, маленького и уродливого, но всё-таки купить.
— Мы должны освободить их, — она прошептала.
Нир подтянул жеребчика, удобно устраивая над окончанием члена. Прижал. Широко раздвинув копытами его ягодицы, он показывал, как ребристая по краю головка накрывает очерченный пончиком анус, с силой вжимается и продавливает его.
— …Мы должны закончить то, за что боролись ребята. Мы должны освободить всех.
— Мы ничего никому не должны, Джина. Мы сделаем это, потому что можем и хотим.
— Да, мы хотим…
Приблизившись, и едва не касаясь носом, она смотрела на самое красивое. Как огромный, широкий почти как два её копыта член плавно погружается, а принимающий его жеребчик чуть елозит в путах, способный разве что напрячься до предела — пока не иссякнут силы — а потом принимать снова, всё глубже и глубже, тяжело и часто дыша.
— Я фотик забыла, — она пожаловалась.
— Нет! Не снимай меня!
— Ладно-ладно, — она прикрылась от злобно-сверчкового взгляда копытом. — Я просто хочу сказать, что мы должны стать сильнее, чтобы выкупить, отвоевать, спасти остальных.
— Джин, скоро мы станем сильнее. Ваши дети не будут жить в этой проклятой пустыне. Мы заставим их отдать лучшие земли. Мы поселимся в большой, зелёной стране.
Обеими копытами он коснулся точки на животе жеребчика, где большой выступ проступал изнутри.
— Смотри, пони здесь, — он обозначил копытами узкий треугольник. — Они идут вперёд, идут вперёд. — плавно погружаясь, он вёл копыта выше, пока они не остановились на груди младшего жеребца. — И хорошо идут. Эти станки, суда, города. Железные дороги, школы, больницы. И крошечные семьи, где три, четыре, редко пять жеребят.
Плавно он двинулся обратно, заставив жеребчика изогнуться дугой.
— А мы здесь, — он указал копытом точку в основании жеребячьего пениса. — Наши кобылки успевают родить до двадцатилетия четверых-пятерых детей. Мы держимся, хотя мы зависимы от их продовольствия, а в столице скопилось так много голодных ртов. А теперь представь, как все мы, объединившись, выйдем в мир лугов.
Копыта обозначили два луча, широко исходящих из точки. Стремительно они двинулись вперёд, прошлись по животу, коснулись крайних рёбер жеребчика, и ушли дальше, когда Кумо с резким выдохом изогнулся, брызгая струйкой предъэякулята себе на грудь.
— Джин, мы пустынные боги выживания. Мы всё общество перестроили, чтобы жить несмотря ни на что. Наши кобылы будут строгать и по десять, и по двадцать младенцев. Наши жеребчики соберутся в большие, дружные, строго иерархические стаи. Наши потомки захлестнут Эквестрию. Спустя полвека наши рейдеры будут насиловать цветных жеребят.
* * *
Насиловал Нир красиво. Не так быстро, чтобы жеребчик кривился от боли, но и не так медленно, чтобы думал о своём. Старший жеребец его гладил, заставляя расслабиться, а потом брал ещё глубже; и слегка сжимал шею в захвате, чтобы в мгновения особенно глубокого погружения напрягался живот. Она видела, как блестящий в свете костра член вбивается по самые яйца, а затем выходит до срединного кольца. Видела, как копыто жеребца поглаживает и несильно массирует яйца жеребчика, а его пенис часто пульсирует, влажные подтёки предъэякулята заливают живот.
— Джин, в Эквестрии я видел странные вещи. Картинки старших кобыл с поднятыми хвостами, и жеребчиков, наяривающих на них, совсем сдуревших от недотраха. Видел, как кобылки с жеребцами спят в разных казармах, а младшим запрещают поднимать перед старшими хвост. И естественно, пропасть между поколениями нарастает. Младшие боятся, ненавидят, а теперь и презирают стариков.
— Ты не старый, — Джин шепнула.
Жеребец захохотал. Он подозвал свою Тето, и мимоходом поцеловав, сдвинул её мордочку ниже. Тихий стон послышался от жестоко ебимого Кумо, когда его стали не только натягивать и массировать, но и облизывать самые чувствительные места. Джин к этому с удовольствием присоединилась. Это круто, когда предъэякулят жеребчика отдаёт орехово-сверчковым вкусом, а вторая кобылка увлечённо лижет, касаясь её языка своим.
— Ещё первокурсником я предлагал им реформы. Даже чего-то добился, по крайней мере в одном классе военной академии, где мы жёстко отстаивали свои права. Право на счастье, право на дружбу. Право любить свободно, жить с кем захочется и идти, куда зовёт душа. У них мудрая в своей глубине философия жизни, над которой затем надстроили уйму всевозможной мерзости, чтобы в точности как мы учить зверству жеребят.
Вот зачем говорить о пони? В такой-то момент. Хотя, изнасилование есть изнасилование, и изливаться можно не только внутрь большим членом, но и в поджатые ушки языком. И Тето тоже попробовала, сначала назвав жеребчика маленьким — и вовсе он не маленький! — а потом слизывала пот с его шерсти и шептала, что любит пончики и ненавидит сверчков.
— …Шутка в том, что их мерзость ещё хреновее, чем наша. Раз уж насилие необходимо, мы создали культуру изнасилований, чтобы выжать из неё всё возможное счастье. Пока их мотало то в дикую жестокость, то в тотальную ненависть к жестокости, мы развивали свою культуру до той высоты, где радость изнасилования хоть немного, но превосходит причиняемую жертве боль.
Повернув к себе мордочку жеребчика, он его сильно поцеловал. Их языки сплелись, а мускулы напрягались с каждым движением. Жеребец подтягивал младшего любовника выше к своей груди, позволяя члену почти полностью выйти, а когда Кумо переводил дыхание, его до резкого выдоха натягивало опять. Темп ускорялся, ровно до того предела, который жеребчик мог выдержать, а затем ещё немного, когда он расслаблялся достаточно, чтобы с касанием о яйца жеребца не стонать, а просто часто дышать. Широко открытые глаза смотрели куда-то в пустынную даль.
— Я думаю, дело в том, что они всегда жили надеждой. Что страна восстановится, что явится спаситель, что их божества смотрят с закрытых тучами небес. А наши предки, забытые всеми в этой трижды выжженной пустыне, знали, что наше Хреноземье уже никогда не очистится. Пока ещё могли мыслить, они решили обучить нас так, чтобы мы несмотря ни на что выживали. Чтобы помнили, кто наш враг, и не убивали своих без необходимости. Чтобы находили счастье друг в друге, а не в пустых надеждах, и умирали с улыбками, зная, что хотя у каждого есть своё место, это место среди друзей…
— Оммм… — Джин взяла язык жеребца в губы, затянула, облизала. И широко улыбаясь не отпускала, пока Тето пристраивается над жеребчиком, позволяя ему прочувствовать крепкие мускулы её бёдер, а потом и напряжённую щель, и сжатый в узкую точку проход в глубину.
Ха, да она же смущается! Смущается, что жеребчику не понравится её отлично разработанная дырочка, или сама кобылка, которая девственной была уже не помнит когда. Насаживаясь, Тето так напряглась, что у Кумо глаза полезли на лоб. Кончил он мгновенно, как только их бёдра прижались друг к другу. Резко выдохнул, вывалил язык. Тонкая нить слюны потянулась вниз.
— Нравится, а? — жеребец прервал поцелуй. — Мне — очень. Этот жеребчик теперь твой. Я дарю его тебе.
Тето покраснела от ушек до копыт, улыбнулась, а Нир уже отклонялся на спину, позволяя дочери в своё удовольствие скакать на жеребчике. Собственный темп жеребца стал частым и особенно глубоким, так что член выходил сначала наполовину, а потом и едва ли на треть. Жеребчик подал голос, постанывая тихим «ааау-ааау» на каждом выдохе, а его покрытая бусинками пота морда алела как помидор.
Скоро он кончил снова, пока Нир с Тето красиво целовались, а она сама слизывала капли пота с его лица. Она дала Кумо деревяшку в зубы, чтобы ненароком не прикусил язык, а сама показывала друзьям, где у него самые щекотные места. Едва не захлёбываясь слюной он скулил, дёргая связанными ногами, пока вдруг резко не выдохнул, закатывая глаза. «Опять кончил?» — она хотела спросить, пока не заметила, что жеребчик слегка надувается изнутри.
Долго друзья просто лежали, не вынимая, а оцепеневшего Кумо поглаживали с двух сторон. Наконец, когда тот стал мотать головой, Нир спросил:
— Готов ко второму раунду?
— Второму?! — у жеребчика в глазах стояли снежинки. — Охренеть просто… готов.
Вот это боевой дух! Вот что хорошая мазь делает! Когда Нир вышел и снял верёвки, помогая младшему хорошенько размяться, Джин принялась очень густо смазывать его член. Половину баночки на жеребца, а вторую половину в удивлённого жеребчика. Это только кажется, что второй раз проще первого, а с точки зрения медика всё иначе. О, она повидала столько натёртых мест!
Нир явно решил целиком довериться мази. Он пристроился над жеребчиком, сжал его шею в захвате, потянул на себя. Вошёл резко, без подготовки, и не остановился. Быстрое, но плавное движение закончилось ударом яиц о яйца младшего жеребца.
— Ау… — Кумо тихо выдохнул.
— Подумай о Квинте.
— А?
— Об этом бесполезном создании, о котором мы заботимся и будем заботиться. Не бойся быть слабым, просто скажи свою «снежинку». Кончай уже в героя играть.
А вот это было грубо. Жеребчик аж скривился. А за Квинту она разочарованным взглядом оглядела жеребца. И всё ему высказала: и о зебре, которая сама по себе замечательная и очень старается; и о эмоциональной тупости некоторых; и о таких штуках в горле, которые называются миндалины — и которые всем кажутся бесполезными, потому что так часто болят. А болят они оттого что яда много. А если их вырезать, боли не будет, но ты уже никогда не узнаешь, сколько яда скопилось внутри.
— И сколько? — он спросил тихо.
— А я знаю? Сам же спугнул.
Ну… или не только сам.
* * *
Квинту искать поленились. Одной убегать — не хочется. Тето не отправить — её же праздник; А всей компанией неудобно, потому что бедолага Кумо был теперь тщательно привязан ремнями к торсу старшего жеребца. Бёдра прижимались к бёдрам, яйца к яйцам, спина к животу. Зависнув так, жеребчик прикладывал к морде разом оба передних копыта, отчаянно краснея, а между своими «ау-ау-ау» требовал, чтобы об этом никто — вообще никто! — никогда не узнал.
— Снежинка, — подсказывал неспешно ебущий его жеребец.
— Хрен… тебе.
— Ха-ха. Ну тогда держись, мелкий карьерист.
Удары стали ещё глубже, стоны громче, а когда член жеребчика встал каменной сваей, старший жеребец поднял копыто, подзывая к себе дочь. Та мигом юркнула ближе, но замялась, не понимая, что делать — и тогда Нир пристроил её мордой к земле. Стоять на полусогнутых ногах ей было неудобно, но у друзей специально для таких случаев была мягкая и тёплая — хотя и чуть потрёпанная — подушка по имени Джин!
Она устроилась копытцами кверху под подругой, чувствуя спиной остывающий вечерний песок. Удивлённой мордочкой к удивлённой мордочке. А сверху была хитрая конструкция из жеребчика и знатно насадившего его жеребца. Вдруг всё стало ясно, и Джин улыбнулась, а Тето чуть неуверенно улыбнулась следом за ней.
Когда айкнувший жеребчик воткнулся в неё, Тето захлопала глазами, а когда ощутила на его животе большой выступ, улыбка засияла до ушей. И как же она тёрлась! Обхватывая жеребчика, лаская всей четвёркой копыт, прижимаясь об этот выступ твёрдыми как камешки сосками. А жеребчик, с совершенно ошалевшей рожей, с каждым движением старшего жеребца то вбивался в неё до самого предела, то выходил, подёргивая клитор медиальным кольцом.
Сверчковый Кумо кончил — кот знает в который раз — а потом снова, заливая их бёдра уже даже не белой, а прозрачной как предэякулянт жидкостью. Суперстимуляция была настолько глубокой, что его хватило и на третий, и на четвёртый раз. И даже на пятый, когда он уже обмяк в чуть разочарованной Тето, зато на вторую кобылку у него замечательно встал.
Откинув голову на песок, Джина дрыгала копытами, уже такими ослабшими от подступающего оргазма, что она не боялась случайно пинать бока жеребчика и жеребца.
— За-аебись… — они с Тето выдохнули на пару, когда жеребчик кончился. — Кумо, как ты там?
— Жить будет.
Упали ремни, упали верёвки, упали на песок безвольно висящие копыта. Очень медленно и плавно Нир снял с себя бедолагу, а когда послышался тихий «чпок», их с Тето накрыл белоснежный водопад. Лёжа втроём в луже мокрого и липкого, они с Тето неловко хихикали, пытаясь разнять сжимавшие друг друга ноги, а свалившийся поверх них жеребчик только мотал головой.
— Даже не знаю, какая за это полагается награда, — вслух размышлял Нир. — Я бы затребовал себе кобылок, власти, богатства, и был бы крайне разочарован, если бы дали что-то одно.
Перетянув дрожащего Кумо на себя, он осторожно разминал его мускулы, а в зубах держал большую и очень длинную маслёнку, которую заполняла обезболивающая и лечащая ссадины мазь. От каждой капли холодящего лекарства Кумо чуть подёргивался и широко открывал рот.
— Я бы предложил тебе место заместителя при штабе, но это нечестно, это место и так стало бы твоим. А как насчёт того, чтобы вступить в команду?
— В команду?.. — жеребчик тихо спросил.
— Завоевателей мира! Джина, ты умница, тебя мы тоже приглашаем. Будет нас пятеро, бесполезных ничтожеств, которые выведут в Землю обетованную наш настрадавшийся народ.
Широко раскинув копыта и обняв их, он рассказывал, что всё гораздо сложнее, чем кажется. Война невозможна. Настоящая — тотальная война. Воевать нечем, воевать некому — разрозненные банды рейдеров и столичное ополчение не могли противостоять даже пегасам Анклава, что уж говорить об армии объединённой, сияющей огнями городов страны.
— Поэтому мы поступим хитрее. Мы покажем им, что война может быть конвенционной. Это такая странная война, как между нашими деревнями, когда жеребчики похищают кобылок, чтобы потом отпустить; или между большими странами, которые хвастаются числом танков и ракет. При этом вовсе не обязательно, чтобы все танки были настоящими, а каждая ракета могла взлететь. Мы отшвырнём их банды и покажем себя проблемой, которую пора заметить, и о которой пора поговорить.
Он обнимал их так сильно, что носы прижимались к носам, но говорил серьёзно, не спеша целовать.
— Мы поговорим с ними. Мы потребуем уважения. Права на самоуправление. Права свободно покупать землю в Эквестрии, переселяться общинами и жить как нравится нам. Здесь нам потребуется пройти очень тонкую грань, чтобы они не сочли нас угрозой. Нас будет мало, мы будем разрозненны и беззащитны в первые годы. Но мы будем ходить с ними в общие школы, работать рядом, дружить и любить. Их станет меньше, ведь пони-окапи бесплодны, а нас больше — ведь каждая кобылка с малых лет готовится рожать на благо общины, а жеребчик отдать жизнь ради своих.
Его глаза сияли, широкая улыбка стояла на лице.
— Поэтому так важно, чтобы мы сохранили нашу культуру. Если мы будем жить как пони, нас не станет. Мы словно капля крови растворимся в океане воды. Если мы будем жить как завещали предки, очень скоро придёт тот день, когда пони и окапи соберутся на большой референдум, чтобы назвать Эквикапией нашу общую страну. Тогда уже не важно будет, жить ли по заветам предков, или подобно нашим друзьям пони. Страха за будущее не станет, все будут жить так, как им хорошо.
Джин сжала губы. Дружить с пони. С цветными, пушистыми, пышногривыми. С летающими на крыльях, с колдующими чудеса, и с такими сильными, что могут ударом копыта расколоть шлем. У окапи не было ничего подобного! Вообще ничего не было, даже зебры вышвырнули их пинком под зад, чтобы запрудить родные реки и вырубить их зелёные, священные леса. Которые потом так выжгли, что и возвращаться некуда.
Мама ненавидела зебр. Но мама любила пони, и Арики тоже все уши прожужжала, как дружит с цветным жеребчиком, и как учила его целоваться, а потом затащила на сеновал. Кроме того мама ненавидела идеалистов, но это уже было глубоко личное — потому что они вдохновляют, дают смысл жизни, а потом бросают с маленьким комком полосок, уходя в никуда.
Идеализм — отстой.
* * *
А ещё они узнали, что сверчковый жеребчик тоже мыслит очень конкретно. И просто, блин, обожает обламывать кайф.
— Ничего у нас не получится. Наместница делает то же самое. В смысле, наприглашала ихних послов, грозится жар-бомбами, требует землю. И что? Да иметь они нас хотели. Мне один их крылатый монетку предлагал.
— А ты согласился? — Тето вскинула бровь.
— А ты бы отказалась?
Кобылка нахмурилась, да и мотнула головой.
— Нет, будь я в беде, не отказалась бы…
— Я отказался. Я не был в беде. Я охотился, я мог сам покупать еду. Всё было хорошо, пока эти уроды не сожгли город.
Раньше Джина всегда била в нос за «уродов». Но любимого жеребчика — не хочется. Любимому хотелось объяснить, что они боролись за правое дело. Ну а если даже не всегда за правое, то хотя бы просто боролись, а не сидели тихо, принимая в писечку зебринские хуи.
А ещё эта Наместница. Если что, речь шла о той обрюзгшей твари, которая приговорила друзей. Которая сказала, что поджигатели должны умереть, а потом отправила солдат в туннели. Которая смотрела, как ребят ставят к стенке и убивают, пока одна кобылка кричала и рвалась к ним.
— Хотите, открою тайну, почему у нас всё получится?.. — обратился Нир. — Да потому что пони и сами хотят нам помочь! Я говорил с разными пони. У нас есть могущественные друзья.
Ха! Натрахавшийся жеребчик — хвастливый жеребчик. Это верно и для взрослых жеребцов.
— …Скоро мы с Тето снова встретимся с той пони, которая помогла мне поступить в военную академию. Если пообещаете не болтать друзьям, особенно Квинте, то я приглашаю вас тоже.
Стоп! Джин замерла в объятиях жеребца.
— Постой-постой-постой, — она его прервала. — У меня нет тайн от Квинты и никогда не будет. Ты можешь ей полностью доверять! Ты можешь довериться каждому из нас! КАЖДОМУ! Ты хороший. Мы любим тебя…
Она вдруг нашла себя прижавшейся мордой к лицу Нира, так что нос вжимался в нос, глаза смотрели в глаза, а копыта обнимали его за шею — да так сильно, что он напрягал мускулы, чтобы дышать. И она повторила, что никогда с таким не шутит. Про изнасилования, да и вообще. Просто тому, кому доверяешь, всё можно; а кому не доверяешь, ничего нельзя.
А тому, кто обижал-обижал, да и не обидел подругу — она доверяет. Да и остальные — тоже. Может, у жеребят и лапша на ушах, так что этих ушей не видно, но они не слепы.
— Хватит, Джин, хватит, — очень плавно жеребец поднял её. Отсадил на песок.
— Это важно!
— Я не могу рассказать всем. Это просто глупо…
— Можешь! Между друзьями нет тайн!
Когда важно, она умела быть упрямой. Упёртой, сжавшей зубы, стоящей до конца. И жеребец напротив так же упрямо смотрел на неё.
— Кумо, а каким он был, твой любимый? — вдруг спросил Нир.
— Что?!
— Это заметно, когда внутри море боли, которую хочется хоть как-то выплеснуть. Да и твой зад разработан лучше, чем у моих дочерей.
Что за дурная привычка, теребить раны?.. Жеребчик тут же всё высказал, тыкая копытом в лицо жеребцу. И какой он хуй, и где он этот хуй видел, и куда пошлёт.
На что «хуй» возразил, что лучше рассказать, а не то хуже будет. Мол, секс без взаимного доверия нахуй не нужен, а доверие нельзя заработать, всего лишь сблизив тела. Мол, лично для него граница между «чисткой этого поганого мира» и «заботой о друзьях», это объём спермы в яйцах и число выебанных кобылок. Стало быть тех мелких засранцев в голове, которые называются моноаминами, и синтезом которых нужно управлять любым доступным способом. В том числе и начисто вырубающим «чуйку» эхионом, и еблёй в жопу, и стояком на жеребят.
И последние два способа лучше. Потому что в этом проклятом мире только чуйка спасает жизнь.
— Аа… ещё раз, — жеребчик недопонял.
Нир объяснил снова, а потом снова. И на камешках, и на сверчках. Мол, мир сложнее, чем кажется. Мол, любовь внутри, а не снаружи. А когда любимый умирает, лучше взять эту любовь и направить на других близких, чтобы не стать внутри тем чёрствым чудовищем, которому всегда мрачно и всегда больно, и которое ради этой мрачности обижает других.
— У тебя херово получается, — жеребчик пожаловался.
— Что же, херово лучше, чем вовсе никак.
Он прижал Кумо к яйцам, заставляя вылизывать, а потом живот, грудь, шею, лицо. Повернул к ней задницей, широко оттягивая копытами ягодицы. Мол, можно ещё разок выебать, или неможно? И пощупав пончик она решила, что можно — жеребчик и правда справлялся на редкость хорошо.
В этот раз они не спешили. Кумо полусидел-полулежал, ёрзая по животу лениво развалившегося жеребца, и сам насаживался, как ему было удобнее, а Нир только поглаживал его круп обеими копытами, прощупывая глубоко и сильно, и лишь изредка слегка по нему хлопал, когда темп начинал ослабевать. И говорил, конечно же. Что дружба начинается с улыбки, близости, доверия и капли самопожертвования. Что старшие рейдеры на то и старшие, чтобы наставлять младших, а младшие должны хорошо знать, каково это, быть кобылкой, чтобы с нежностью и уважением насиловать своих жертв.
— Кумо, обязательно похвастайся ребятам, что прислуживаешь мне в постели. Твои городские товарищи, конечно, не поймут. Но призадумаются. А нам уже давно пора заканчивать с этими играми на полигоне и начинать боевое слаживание подразделений. Обещаю, в их узких попках перебывает столько хуёв, что от кобылок ополчения до наших младших рейдеров будет один шаг.
— Ау…
— Со своей стороны замечу, что это глубоко справедливо, когда боевики жестоко трахают штабных крыс.
Оу, кстати, их прозвали «Штабными Крысами»! Даже шеврончик был! А крыса, это очень крутой зверь. Она плодится, шмыгает невидимкой, запросто может заточить сверчка за один присест — а если укусит, то так укусит, что может и отравить. От сверчков Кладж охраняли домашние крысы! А ещё они поедали гадюк.
Эквестрийских штабных гадюк.
— Снежинка.
— Да неужто?
— Снежинка-снежинка-снежинка! — жеребчик вырвался, соскочил с жеребца. — Идите нахуй! Я лучше сдохну, чем буду это терпеть.
Он стоял, тяжело дыша, перед плавно поднимавшимся Ниром, пока Джин не положила копыта ему на плечи и не притянула к себе. Нет — значит нет. Она спросила, можно ли им вдвоём переночевать на радиостанции, и когда товарищи кивнули, потянула друга к глинобитной хижине невдалеке.
* * *
Столько времени прошло — всё в их доме уже запылилось. И матрас с тумбочкой, где до сих пор валялась старая оправа от квинтиных очков; и её полка с мамиными книгами по медицине; и даже их рваные пыльники, на которые все забили, когда из столицы привезли пошитые специально для них кадетские мундиры, разгрузки и пустынно-белые армейские плащи. Радиостанцию демонтировали, чтобы поставить хрупкие модули на Старой шахте, а кем-то в попыхах брошенный листок с электросхемой до сих пор лежал на столе.
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
— Я облажалась, — Джин вздохнула.
— Я тоже.
Жеребчик потирал зад, оглядываясь в полутёмной комнате, а полуночная луна бросала блики через пыльное окно. Молча они обнялись, устроившись на кое-как отряхнутой от пыли постели. Долго смотрели друг другу в глаза. Кумо признался, что слишком устал быть никем. Она кивнула. И тоже призналась, что хочет сделать всё правильно, а получается хреново, поэтому нахуй не нужен ребятам такой командир.
Они обменялись значками. Так ведь можно?.. Теперь у Кумо на груди висела цепочка с бронзовыми копьями взводного, а у неё бляшка рядовой. Потом отложили оба колючих значка и просто прижались друг к другу. Долго никто не говорил.
— У меня был друг, — Кумо признался. — Очень хреновый друг, но самый честный, кого я только знал в жизни. И я не позволю хую с мутными глазами занять его место. Вот.
Несправедливый! Но она смолчала. И, кажется, начинала понимать самую глубинную ошибку. Нир был рядом с ней и Квинтой, с Тето и Арики — всегда рядом, пока месяцы складывались в год и второй год. Они узнали его до мелочей: его болтливость, импульсивность, отходчивость — и умение остановиться. Умение остановиться всегда. Высказаться, но не заставить; толкнуть в нос, но не ударить; затянуть в постель, но не изнасиловать. Одним словом — пожалеть.
А потом он отдалился, когда они покинули этот домик, чтобы жить в бараке с остальными жеребятами. Теперь Нир спал в палатке на полигоне, в той железной коробке на колёсах, или же просто на земле. Всё было неправильно. Это не Тето должна была убегать к нему, а сам Нир спать среди них. Среди тех, ради кого вкладывал жизнь.
— Друг меня обижал, — заговорил жеребчик. — Помню, как был голоден, но из-за вас, ублюдков, каши мне почти не доставалось. Тогда я стырил ножик с кухни и ту метлу из уборной, кое-как связал эту хрень леской и пошёл в подвал добывать сверчков. Они легко ловились поначалу, но я не знал, где их безопасно пожарить, и просто сушил среди горячих труб. Когда сверчки закончились в подвале, я пошёл дальше, разобрав стенку, откуда они ползли. В туннелях их было много, но с каждым разом они отступали всё дальше, а потом и вовсе стали от меня убегать. И я гонялся за ними, крича от восторга, пока вдруг не понял, что кто-то гонится за мной.
Кумо прижал копыто к носу.
— Он был полосатым, гораздо сильнее меня. И так врезал, что едва не свернул шею. Я вырубился, а очнулся уже в подвале, где на кирпиче у прохода лежала табличка с очень крутым рисунком моей морды, перечёркнутой крестом. Номерная табличка, как на коридорах. Там стоял номер девять — двадцать один.
— Эмм… — Джин шмыгнула за справочником. — Двадцать один, двадцать один. Это старая библиотека под вторым бункером?
— Ну, книги там ещё были. Если что, я намёк понял, и на чужую охотничью территорию долго не ходил. Просто ловил своих сверчков, жарил их на костерке, начал понемногу приторговывать на базаре. Только такие как ты всё отбирали, а другие кобылы брали палочку, втихаря морща нос. Мне всё хуёвей было снаружи и лучше внизу. Однажды я просто плюнул, купил на всё мешок риса, и пошёл к туннелю девять — двадцать один.
Копыто жеребчика погладило живот.
— Не знаю, чего мне хотелось. Я просто шёл вдоль тоннелей со снятыми табличками, пока не нашёл место с рисунками на стене. Деревья, домики, те летучие аэроштуки. Я просто трогал их, открыв рот. Они были зелёными, синими, красными. Я дёргал копытом, заряжая фонарь, а они блестели, почти слепя глаза.
СТОП!
— Это зона семнадцать, — Джин широко улыбнулась. — Я видела это место!
— И вы всё засрали…
— Ну… мы…
— Хуй с вами, — жеребчик зажмурился. — Я пришёл, получил по морде. Снова пришёл. Снова получил.
Он рассказал, как дрожал и вырывался, лёжа на бетонном полу, а взрослый жеребец пинал его — так сильно и так долго, как хотел. А потом снова — когда он пришёл через неделю. И ещё раз — когда приковылял на восьмой день.
— Зачем?
— А зачем ты бежала под пули, когда добивали твоих?
Жеребчик только фыркнул, когда она принялась объяснять, и отмахнулся. Он рассказывал дальше, как сидел там, на бетоне, пачкая пол кровью из разбитого носа, а старший жеребец смотрел сверху. Потом появился самодельный ошейник из обшитой тканью стальной ленты и недлинная цепь. Старший заставил его подняться и увёл за собой.
— Там были сверчки. Много сверчков. Большие и огромные, и мелкие, шевелящиеся живым ковром. А мы жили в их гнезде. Мы пили из кожистых мешков, в которых маленькие носили воду, а с помощью больших готовили сухой и солёный сверчковый сыр. Там было светло — самые мелкие светились. А ещё сухо. Друг заставлял меня очень много читать.
Наверное, дружба, это очень странная штука. Вот одна кобылка ни в какую не хочет дружиться с тем, кто её не обидел; а другой жеребчик невзначай подружился, хотя чуть что получал по носу, а когда не получал, тогда доил сверчков и сидел на цепи. Молча сидел. С разговорами в этой паре было не очень — старший жеребец оказался глухонемым.
— Это не с рождения. Он как и я родился на рабском рынке, а потом был за что-то наказан, плюнул и ушёл. Он вообще не поднимался в город. Когда хотелось увидеть небо, мы просто шли по самому дальнему туннелю и выходили наружу, долго сидели на утёсе, смотрели на эти густо натыканные, вонючие хибары пригорода, а потом возвращались опять.
Жеребчик прижался к ней.
— Сверчки приятно пахли. Лучше, чем зебры. Они разрешали нам брать маленьких и пить не оплодотворённые яйца, а когда в туннели бункера заглядывали мутные хуи снаружи, мы вместе со сверчками отпугивали их. У нас была старая радиостанция, с которой мы слушали передачи Зебрики и Эквестрии, а ещё бывало, что мы снаружи ставили антенну и всю ночь болтали с радиолюбителями с других концов земли. Пони всё заёбывали, что рабство и насилие, это хуйня полная, так что друг в конце концов снял мой ошейник, а чтобы скучно не было, научил трахать сверчков.
— Эмм… трахать сверчков? — Джин подняла уши.
— Больших сверчков. Они тёплые внутри, мягкие и скользкие. Почти как твоя пиздёнка. Очень приятно обхватывают, вы с Квинтой так не умеете. Сверчковое масло замечательно смазывает и миндальное на вкус, а их отростки длиннее и нежнее, чем хуй у нашего «хуя». Вообще, секс с жеребцом — дерьмо полное. Одного раза с меня достаточно. Больше ни за что и никогда.
Стоически она выдержала, не опуская взгляд.
— Знаешь что, Кумо?
— А?
— Когда мы завоюем Эквестрию, я запрещу науку. Хватит уже, настрадались. Будем жить просто и честно, как в старые добрые времена.
Жеребчик долго смотрел на неё.
— Хуй знает, кто из вас страшнее. Короче, мы с другом всё-таки плюнули, и начали приторговывать домашними сверчками на рынке, рисунками, сыром, вообще всем. Мы хотели взять пару сверчков в рюкзаки, насобирать денег на туристическую визу и свалить в Эквестрию. А там уж как-нибудь насосали бы на временные паспорта. У нас всё хорошо было, пока вы не вломились, а потом пришли за вами. Дом закидали гранатами, я был ранен, друг убит.
Кумо отвернулся, попросив передать всё сказанное Ниру. В ответ тот прислал извинения и пачку тянучек в подарок, а в обратную сторону она уже бежала с двумя палочками жаренных сверчков. Так и бегала она — туда-сюда, туда-сюда — пока ребята не помирились, а нир с Тето, наконец-то прислушавшись, не переселились к остальным.
Ну и Квинта вернулась. Только её тоже тянучками и сверчками пришлось долго угощать.
* * *
Это самое сложное, наверное, жить так, чтобы все мирились с ебанутостью друг друга. Ребят она здорово переоценила. Те с восторгом смотрели на то, что старший жеребец вытворяет со своей дочерью, но на место затраханной Тето никто становиться не спешил. Даже на раз в неделю! Жмутся, морозятся, смотрят на свои прижатые к промежности копыта, да и зыркают потом в глаза, подёргивая ушками: «А можно чуть подрасти?»
Нет, неможно. С первой же течкой вас отдадут рейдерам Долины озёр. Вы будете делать одного жеребёнка за другим, не зная, кто настоящий отец из-за ёбанной «конкуренции спермы» и из-за того, что рейдеры сами не знают, у кого яйца ещё нормальные, а у кого уже совсем спеклись. И вы не знаете тоже, сколько живых младенцев вам отпущено выносить. Троих, пятерых, семерых? Пока не станет слишком поздно, пока не откажут миндалины, а потом и всё тело начнёт гнить на ходу.
И всё, пиздец, добро пожаловать во взрослые. Вот тебе плащ, вот тебе бинты, работай на огороде и заматывайся всё больше, чтобы маленьких не пугать. И да, тебе нельзя их касаться, потому что болезнь заразна, а каждый больной — прокажённый. Но ты всё ещё можешь приготовить что-нибудь вкусное, стоять на посту с винтовкой, делать игрушки для жеребят. А чтобы совсем не дичали, давать им советы. А когда и они повзрослеют, уйти вместе в большой город на побережье, где живут другие гули. И живут не так уж плохо: вечность — не конец.
И вот сидят они, погрустневшие кобылки рядом с погрустневшим жеребцом. А потом сжимаются зубы, винтовки скрипят под копытами, и они снова, в сотый, в стотысячный раз разбирают, чистят и с лязгом собирают их. А Квинта сидит поодаль, опустив взгляд, потому что ей маленькой давали и таблетки, и подходящие только зебрам прививки, и вообще, она не так уж часто видела Солнце, зато дышала фильтрованным воздухом, и потому ей отпущен куда больший срок.
А сверчковому Кумо меньший. Бункеры не бросают просто так.
— Да ладно тебе, — говорил он, обнимая её. — Я бесплодный, ты бесплодная. Да и вообще, похуй. Не могу представить себя отцом.
Она тоже не могла представить. Может, просто маленькая ещё? Квинта, вон, до сих пор никому не отдавалась без резинки. Даже жеребчику, который абсолютно точно, с припиской в купчей, бесплодный. Но не отдавалась, поджимая уши и говоря, что исключения для слабаков.
А однажды Нир собрал их всех вместе, чтобы поговорить.
— Ребята, время признаться. Ещё в Эквестрии я задумал устроить восстание с вашей помощью. План был таков. Мы договорились с Льдинкой, что против нас они выставят самых отбитых головорезов, которых мы легко порвём. Когда наёмники отступят, и эквестрийцы будут готовы ввести в дело регулярную армию, мы уже будем героями войны. В час икс, когда мы прибудем в столицу, мы освободим рабов и свергнем наместницу. Пони выполнят наши условия, как мы выполнили их.
— Выполнят ли? — вопрос был дружным. Уже давно никто здесь не боялся спрашивать, спорить и уточнять.
— Вопрос не в этом друзья. Они — выполнят. Вопрос в том, как нам поступить? Хорошее дело не начинается с предательства. Хорошее дело не начинается с предательства той, кто сражается за нас. Не этому нас учили. И как бы плохо к нам ни относились зебры, они всегда принимали лишние рты в столице и лечили нас. Что до Наместницы, я уважаю её.
Джин вскинула взгляд.
— Она организовала поставки продовольствия, как только первые сухогрузы Эквестрии вышли из портов. Она раздавала бесплатную еду жеребятам-окапи и запретила гражданам без суда наказывать их. На месте рабского рынка у нас появился первый детский дом, а теперь и первая школа для рабочих. Когда жеребята восстали, она казнила зачинщиков, а остальных выкупила за бесценок и отдала в родные племена. Таким способом она защитила их от продажи в Эквестрию, чего требовали пони, а поскольку еды стало больше, голодная смерть никому не грозит.
— Ты… — Джин начала.
— Нет, ты. Один этот поступок стоил многого. Их бы не отдали в нашу общину, она слишком маленькая. Их бы раздали в чужие семьи. Потрясающая идея, чтобы у каждого семейства земнопони была безотказная дырочка для ебли, а в каждой школе дружбы жеребчик для битья! Эти прекраснодушные идиоты совсем позабыли, что все мы потомки рейдеров, и в нашем обществе беззащитных нельзя доверять чужакам. Я — тоже. Иногда забываюсь. Наместница — не из таких.
Словно нож в сердце. Остановившимся взглядом Джин смотрела на старшего жеребца.
— В восстании нет необходимости. Восстание закончится кровью. Всё, чего я должен добиться, это открытых, публичных переговоров. Чтобы нас услышали и наконец-то признали за тех, с кем можно говорить. Чтобы увидели не банду преступников, а солдат, защищающих свою страну. И нет, друзья, восстание в сложившихся условиях, это худшее, что мы только можем сделать. Мы потеряем силу и самоуважение, а следом за тем всё.
В тот месяц он говорил много и яростно. Сначала собрав их вместе, а потом и с каждым из них. Убеждал, настаивал, тряс Кумо за плечо. А Квинта стояла рядом и большими, просящими глазами смотрела на них.
Зачем делать так больно, когда можно просто сказать «так надо» — и все бы кивнули. Она даже могла бы выпить полную тыкву эхиона, чтобы простить на сколько-то, если вдруг потребуется стелиться перед чудовищем и о чём-то умолять; но боль-то всё равно вернётся, а сегодняшняя дружба с ребятами болтается как заплатка на дыре.
Ну, по-крайней мере друг понимал её грусть. Они выдули тыкву вместе и засыпали обнявшись, а она долго хныкала, то в нирино, то в квинтино плечо. А ещё узнала в тот день, что Кумо ненавидит плакс.
— Интересно, — размышлял обнимавший их всех троих Нир. — Как эквестрийцы решают задачи голосованием? В контексте каждой тактической задачи есть более правильные решения и более неправильные. В повторяющейся дилемме заключённого более эффективные алгоритмы и менее эффективные. Предательство на предательство, доверие на доверие, прощение на прощение, к примеру, самый эффективный из них.
— Я не прощу, — Джин буркнула.
— Да она от старости иссохнет скоро. Забей уже! — жеребец огрызнулся, но продолжил как ни в чём не бывало: — Когда Джин сравнила Квинту с миндалинами, я осознал значение Наместницы в этой игре. Она — детектор. Прежде всего — неполноты знаний отдельных игроков. Эквестрийцы посчитали спасение жеребят предательством и требуют свержения тирана. Об этом сейчас только и пишут, на вторых и третьих страницах моей подшивки газет. Они знают, что где-то там есть Хреноземье, где с одной стороны заебись, жеребячьи писечки дешёвые, а с другой стороны, вот же ж падлы, обижают жеребят.
Нир с тем особенным выражением смотрел на неё. Словно жеребчик на рынке, у которого из сумки вырвали сверчковую палочку, а потом обступили, и ухмыляясь заглядывают в глаза.
— Мы проигрываем, когда защищаем нашу культуру и правителя, и вдвойне проигрываем, всей нацией, если уступим врагу. Нам нужно, чтобы они нас узнали. Узнают — угрозу. Нам нужно встать на пути и толкнуть в плечо эту легкомысленную белокрылую пони, а не драться в пыли друг с другом, словно жеребята, которых она переступит, или, того хуже, бросится разнимать.
— Нуу… — она призадумалась. — Если бы Кумо на рынке полез в драку, мы бы его просто избили.
— О чём ты?
— Это я обо всём, что ты говоришь.
— А, ассоциации, — жеребец отвернулся. — Знаешь, наша жопа такая беспросветная, что терять-то уже и нечего. Если будем защищать свои права, может и не погибнем. А стелиться — всяко конец.
Вот, все окапи разные! Для одних лучше ужасный конец, а для других — когда стареют и превращаются в пустынных гулей — ужас без конца.
Вуу!
Глава четвёртая «Безупречная война»
* * *
Оружие — потрясная штука. Вот мелкая хреновина, которая называется предохранителем, вот магазин с боевыми, вот крепление и приклад. Ну что, крысаны, погнали?! «Вррру! Вррру!» — поёт штурмовая винтовка, и с кактуса сыплются ошмётки. Летят камешки, пыль, дощатые куски. Щёлк, и магазин пустеет — с визгом за гусеницу танка прячется ошалевший слоупок.
Но стоп, одна волына, это не по-рейдерски. С хохотом она вскидывает пистолет-пулемёт. И снова это волшебное «Вррру-врррру», лязг бьющих по металлу пуль, чарующий визг слоупока. О да, это огневое подавление! Это зебра-стиль! Но она может и ещё круче. Крепление падает на песок, с громким лязгом отлетает приклад, и она стоит на задних копытах, сжимая в передних автомат. Щёлк. Вррру-врррру! Дрожит небо, дрожит земля — истинное искусство ган-каты является в мир!
Щёлк.
— Ну ёпт…
— Патроны закончились? — в тишине звучит приглушённый вопрос.
— Ага.
— Ты уверена?
— Абсолютно!
Она широко улыбается любимому жеребчику, когда тот выглядывает из под танка. Щёлк. Щёлк. Видишь? Патронов нет. А ещё её учили не наставлять оружие на своих — это реально опасно! Учили стрелять не целясь, за три мгновения выпуская в линию горизонта весь магазин. И учили бегать, бегать очень быстро, тут же меняя позицию — а потом орать артиллеристам: «„Выдра“! Группа пехоты на высоте „Плоская“! Рубеж „Акация“, дальше сто!»
Круто? Круто же! Совсем не то же самое, что в киношках про больших полосатых с огромными пушками и стальными яйцами, но тоже круто, когда маленькие пехотинцы вдруг собираются большой дружной стаей, с хитрыми ухмылками договариваются с артиллеристами, а потом герои со стальными яйцами смотрят на них и чешут в затылке. Пусть пехота маленькая, но когда пехота работает, герои не очень-то и нужны.
А если домик, то его тоже можно сложить залпом сто-двадцатых. Вжух-БУХ! Вжух-БУХ! И нет домика, кончился домик, а артиллеристы ещё и похвалят: им ведь тоже охренеть как нравится всё взрывать!
— Короче, ребята, это большая стреляла! — Джин вскинула винтовку. — А это стреляла малая. Они стреляют куда-то туда, а вы идёте вперёд, пока стрелялы стреляют. Потом вы кидаете гранаты, и всё, врагу пиздец.
— А если нет? — высунулась из-под Квинты совсем мелкая кобылка.
— Тогда нам пиздец! Но не ссы, у нас стрелял больше. Просто стреляй, и, мать твою, стреляй на ходу. Привычка стоять и целиться, это у понях слабое место. Они ещё не уловили суть игры.
Вообще тупые. Смотришь в бинокль на такого; чёрного-чёрного, с черепом на метке; а он ухмыляется в оптику и проводит по горлу крылом. А потом земные бегут по полю, гуськом выстроившись, весело пересекая рубеж первого, а через минуту и второго неподвижного заградительного огня. Вы там все и ляжете, идиоты! Но нет, не понимают: рассредоточились, довольные идут. Они совсем там позабыли, что увешанные оптикой стрелялы, это то же самое, что и стрелялы обыкновенные, только хуже, а ваши супер-прочные тяжеленные броники, это ваша смерть.
Пуля ведь дура, не она убивает. Пуля служит не для того, чтобы убить, а чтобы прижать к земле ту точку на горизонте, по которой уже через минуту прилетит тротиловый чемодан. Взаимодействие. Поддержка. Огонь на подавление. Вот что такое настоящая война. А ещё грузовик с боеприпасами, за которым следует второй, третий, десятый; а в каждом грузовике сотни тысяч патронов, а в минутном залпе батальона их десятки тысяч. Сотни пуль в каждую точку, в каждое движение, в каждый силуэт! И этот дым огневого вала на горизонте, под которым складываются дюны, а пустынные слоупоки жмутся к ногам и тихо, на одной ноте визжат.
Дракон, она полюбила войну!
А потом ей выдали кинокамеру. Мол, ты хороший инструктор, ты учишь маленьких правильно, но, как бы помягче сказать… ты ебанулась в край. Заканчивай с этим. У нас и патроны в столице не настолько бесконечные; и артиллеристы не настолько упоротые; и, вообще, даже пони не настолько враги.
— Эмм… ты о чём? — она заглядывала жеребчику в глаза.
Кумо пожал плечами.
— Ну снесём мы их пехоту. Не на учениях, а всерьёз. Раз снесём, второй, третий. А потом нас просто разбомбят с воздуха. И что мы им сделаем? Копытцем погрозим? У них пегасов в тысячу раз больше, чем у нас зениток и радаров при них.
— Это нечестно, — она пожаловалась.
— Пиздец как нечестно. Нам конец.
Сверчковый — кайфолом. Вот она сама — задница; Квинта — заноза; Тето — зараза; Арики — зануда; а «Сверчкоёб» Кумо — выдающийся кайфолом. Если Арики просто читала учебник и текла на тысячи танков, идущих по пустыне, то Кумо сначала молчал, а потом брал её зубами за холку и тащил к ближайшей колонне, где долго тыкал копытом в разбросанные взрывами башни и в эти тонкие дырочки в бронеплитах, которые оставляет кумулятивный поражающий элемент.
Почему полосатые БАХНУЛИ? Да потому что подгорело! А подгорело у них, как только пони научились воевать. По-настоящему воевать.
Всё ведь так хорошо начиналось: орды танков по пустыне, огонь от горизонта до горизонта, горящие города. Все эти Фениксы, Чарвили, Ошенсайды — откуда цветные бежали, тонко повизгивая, пока Железный легион кованным копытом давил тех, кто смел поднять оружие в ответ. А потом начались пегасы — сотни тысяч пегасов! — вся погодная служба, вся почта, вся курьерская сеть.
Отбиться ещё возможно, когда на батальон нападает десяток пегасов, или даже сотня, но когда всё небо в крылатых, уже не имеет значения, сколько у тебя зенитных установок и радаров при них. Просто снесут, а потом полетят к следующему батальону, и к следующему — открывая зияющую дыру во фронте, и остановить их сможет разве что изумрудный огонь.
Наконец, проходит время, рождаются в Зебрике новые полосатики, и начинают расспрашивать. Почему это ваше Хреноземье, имея дохуя танков и патронов, так жёстко сосало у Анклава: в пыль и в пепел, в каменный век? Да потому что одни летали, а другие ползали черепахами! И нет у черепахи шансов: ведь если собраться вместе, то кушать и пить нечего, а если порознь, то прилетят стаей и насмерть заклюют.
Словно жить в тени громады, которая сильнее: которая требует соблюдать правила игры, кои сама же и устанавливает; а чуть укусишь — насмерть уебёт.
Нахуй так жить?
* * *
И всё-таки ей хотелось нырнуть в это бесконечное море патронов. Стрелять по кактусам, дюнам, скалам, соревнуясь с пулемётной Тето; гонять на танке по пустыне, улыбаясь Квинте в её смешной шапочке механика-водителя; а потом играть в прятки с Кумо — который, как бы она ни маскировалась, всегда умудрялся отыскать.
Они починили танк! Свой собственный. Не чей-то там, а целиком и полностью свой. Ещё у Феникса, когда они ползли через пески, Арики всю ночь копалась у одного пустынного страдальца и долго бурчала, что, мол, этот неплохо сохранился. Дружно они уговорили танкистов взять его на колёсный прицеп, а потом вместе с ними месяцами вылизывали: меняя блоки, реле, патрубки и эти бесконечные мотки проводов. И он завёлся. В конце-концов он завёлся: шасси заскрипело, со скрежетом повернулась башня, и они все впятером повисли на танковой пушке. Вниз головами, вниз хвостами, любуясь перевёрнутыми кактусами, вращающимися вокруг.
— Вууу! — Джин орала, широко улыбаясь. И громким «Вууу!» отвечала полная гулями пустыня, а сверчки уже не лезли под колёса, а только тыкались в протянутые копыта и всё норовили облизать.
Как же клёво быть рейдером! Как же клёво, когда все вокруг свои!
Они ехали вместе. Следом за машинами танкового взвода, в арьергарде сопровождая неполную дюжину штабных грузовиков. Квинта валялась на броне, в тенёчке брезентового навеса, Арики раскладывала ракушки, а Кумо обнимал своего домашнего сверчка. О песок скрипели колёса под платформой, пока тягач с большим танковым прицепом тащил их «Коробочку» вперёд. Впервые они выбрались так далеко в пустоши третьей рокады, где до западного побережья оставались жалкие мили, а Кладж уже полмесяца как устроил им прощальный салют.
— А какого жеребчика ты хочешь? — спросила Тето.
— Голубого. С оранжевой гривой и пушистыми ушками.
Это клёво, что пони такие цветные, а у некоторых шёрстка словно утренний океан.
— Мне белого хочется, — Тето призналась. — Белого-белого, как снег с картинок. Чтобы вкусно готовил, заплетал гриву и делал массаж по вечерам. Такого я никому не продам. Я даже куплю ему кобылку, чтобы не было скучно. А пока кобылки не будет, можно, буду делиться с тобой?
— Конечно, подруга.
Они разговорились. Спустя, без шуток, три года вместе, Тето наконец-то оттаяла. Она страшно ревнивая, как оказалось. Сжав зубы она держала в себе ненависть к сестрёнке, но ни разу не ударила её. А потом с ошарашенной мордой обнаружила, что штабные жеребята, вообще-то, не горят желанием быть натянутыми на большой взрослый хуй; а тем немногим, кто не против, в общем-то всё равно с кем ебаться. У них просто чешется, и они убегают то к рейдерам, то к зебрам, а потом удивлённо трогают подросшее брюшко и отчаянно плачут, когда оказывается, что беременным не место в походе, и батальон уходит без них.
Но таких всего трое: другие предохраняются, другие берут пример с Квинты и требует от своих жеребчиков пользоваться резинками. А те и не против. А Нир смотрит на это, сжимая зубы до желваков; долго считает на большом довоенном калькуляторе; а после собирает их всех вместе, чтобы сказать главное: «Племя выживет, если у нас будет хотя бы дюжина жеребят нового поколения. У нас родится — трое. Пути назад нет. Мы или выйдем в мир лугов, или племя умрёт».
Вот, даже так. И Квинта как-то виновато опускает взгляд, да и ей самой не всё равно. С одной стороны, три года, это целая жизнь; а с другой стороны, жизнь уже подошла к половине, и вот в горле начинает побаливать, на языке всё чаще появляется мерзкий привкус, а там и до первой опухоли недалеко.
«Бип!» — пискнула танковая рация.
— Ребята, готовьтесь. Место назначения отмечено как высота «Барханы». Мы выходим из построения с поддержкой «Выдры» и «Чайки». Меняем циркулярный позывной.
О, время переговоров! С Льдинкой, с Вишенкой, с остальными самодовольными кобылами, которые будут стоять в своих страшных чёрных доспехах и смотреть на них свысока. А сами скрытные-скрытные, всего боятся: открыто на камеру говорить не хотят, и даже рычат на Нира по рации. Мол, щенок, ты там совсем зазнался! Мол, нахрена план гробишь, думай что творишь!
Но наш светозарный тоже упёрся. К добру, или к пиздецу, но наместница всё узнала: и о том, как её снимать собрались, и о том, что поняхи — скоты без чести и совести, пока их кованным копытом не прижмёшь. В итоге столица расщедрилась: в наступательной операции «Ошенсайд» их сопровождал полный батальон танков железного легиона, тактические ракеты со специальными зарядами и даже истребители, аэродром для которых расчистили в песках.
А с той стороны работала пропаганда! Такая потешная, что они с Тето хохотали до колик, выкрутив радио так, чтобы слышали все. О, как пони заливали: «У нас все живут мирно и дружно, под одним небом и Солнцем, на общей для всех земле». — «А домик в Ошенсайде дадите?» — «Дадим!» — «Серьёзно? А два домика? Нас ведь много! Нас сто тысяч, самое меньшее! А можно весь Ошенсайд?!» — «Нуу… хуй вам, ребята. Может резервацию, а?»
Нет, так не пойдёт. Мы хотим сами покупать землю, где хотим и как хотим. У нас есть станки, есть заводы, нам найдётся чем заплатить! Мы хотим прав! Хотим уважения! А не ваших дурацких законов, которые обижают непонятно за что. Мы хотим взять Ошенсайд и назвать Капи-сайдом! Ну дайте пожалуйста! Мы даже забудем всё плохое и обещаем не резать пегаса на празднике большого Муураша. Вот видите? Мы не дикие! Сделайте же шаг вперёд!
Хуй там, не сделают. Шагают навстречу сильному, а маленького просто раздавят и дальше пойдут. Реально, господа. Дикость большого и сильного, это ко-ко-ко, его особенная культура! Это война благородных господ, правила, конвенции. А дикость ничтожества, это плевок в рожу, ошейник и клетка — чтобы сгнил там, скотина, не мешая благородным господам достойно жить.
Они старались быть сильными. Уже второй год они устраивали учения морда к морде с цветными, так что дрожали дюны. Манёвры, стрельбы, внезапные танки из песков. Да, мы тоже можем! Мы вас не боимся! И на пролёт разведчика над Кладжем мы можем ответить гонкой танков за вашим штабным броневиком.
Но когда пони в сто раз больше, это просто нечестно. Сколько мышке ни кусай кошку, исход один.
* * *
А здесь было шумно, в лугах, где начиналась граница Эквестрии. С громким жжу-жжу летали те забавные штуки, которых Арики называла шмелями; цвела лаванда; поглядывали зяблики из тимьяновых кустов. Вот только их домашний сверчок сбежал к ближайшей дюне и нервно смотрел оттуда, перебирая жвалами. И ей самой тоже было как-то неловко: все эти новые запахи едва не заставляли чихать.
— Ааа… кхм. Кумо, а представь на секунду, если вдруг окажется, что мы не созданы для чистого мира. Все эти хитрости с генами, которыми пичкали наших предков, все эти щёточки в горле, которые улавливают отравленный песок. Мы же дышим через тканевую маску в таких задницах, где пони откинется за час! Мы едим такую гадость, от которой их вывернет. Мы языком чуем яд в воде. Вдруг мы будем дышать, дышать, а потом падать, отхаркиваясь кровью. А вокруг будет колыхаться зелёная-зелёная трава.
Жеребчик молча указал на Нира и весело катающихся вокруг него близняшек. Все трое болтали о чём-то своём по-понячьи, развалившись на спинах, и ничуть не боясь моря высокой золотистой травы.
— Ну и кайфолом же ты.
Джин осторожно шагнула. Закрыла глаза. Побежала, И бежала до тех пор, пока кто-то не айкнул под копытом, а крепкие ноги Тето тут же сжались на боках. Они покатились вместе, сначала вдвоём, а вскоре и с присоединившимся к ним жеребчиком: который так смешно отбивался, когда они обе принялись облизывать и чесать.
Трава оказалась жёсткой, немного колючей, и почему-то солоноватой на вкус.
— Ребята, закругляйтесь! — это Арики орала. — У цветных от этого подгорает! А нам подгоревшие цветные не нужны! Нам нужны хорошие и ласковые цветные, которые всё подпишут, а потом не будут нарушать!
Кстати-кстати, это было её идеей: не бычить разом на всю Эквестрию, а прижать один маленький, приграничный Ошенсайд. Если вдуматься, какое им там в Новом Кантерлоте дело, что варвары кочуют? А тут очень конкретно, явно, зримо — варвары кочуют у ворот!
Чтобы поняхам не было так страшно, они накрыли танки маскировочным полотном, да и машины с тактическими ракетами запрятали подальше. Ещё очень важно, чтобы кроме местного мэра на встречу прибыли правильные пони: то есть те, которые знают Нира, и пусть люто-бешено на него злятся, но им хотя бы не всё равно.
А вот и они.
— Крысаны, стройся!
Она вскочила, подправляя шеврон. Другие тоже. Над золотистым морем дикой пшеницы вдруг поднялись десятки мордочек в парадных шлемах с латунными бляшками. А вот и планёр над головами — большой и серый, с торчащим из люка пулемётом — а на его крыльях полная дюжина пегасов в чёрной-чёрной броне. А из-за дюн выныривает второй планёр, третий, четвёртый — и какая-то совсем непонятная хреновина в арьергарде, которую окружают чёрные как дым словно бы живые облака.
— Раптор, — Квинта подсказала.
О, так вот как он выглядит, тот ужас времён Анклава. Джин о них читала, но никогда не видела сама. Впрочем, ракете похуй. У них были ракеты! Новенькие, переснаряжённые свежим топливом из Зебрики; а ещё снаряды, море снарядов для ствольной артиллерии, что так ждали гули Старого Ошенсайда. Которых пони обидели, что и стало поводом для больших совместных учений — а может и войны.
Планёры приземлялись, сминая траву. Пегасы тут же взлетали с их крыльев, начиная кружить свою большую карусель высоко в небе, поблёскивая оптикой и связками гранат; появились рогатые, по уши увешанные оружием; а потом и земные, таскавшие страшно массивную броню. А вот техники не было: дурные — между собой воевали — расколошматили себе всё.
— Ребята, я вас умоляю, стволами не тыкайте, — Арики отчаянно потела, расхаживая перед строем. — Всё должно пройти идеально. ИДЕАЛЬНО! А не как всегда.
Вот поднялась большая белая палатка, и от планёров к ним направилась троица переговорщиков. Впереди маленькая, некрасивая, с крошечным рогом; другая, в мундире, чёрная как смоль; а третья в чёрных-пречёрных доспехах. И ни одного жеребца в делегации. Ни одного жеребца! Эй, вы, поняхи, разве у вас здоровое общество, когда всем заправляют кобылы?! Нуу, у нас тоже наместница, но это вроде как исключение, — потому что такая мразь, что лучше уж власть дать, чем не давать.
Джин слышала, что главная у понях лично расстреляла сотни ни в чём не повинных рейдеров. Что разъебала и Анклав, и каждый свободный город на пустоши. Что все её теперь боятся и потому не хотят больше быть рейдерами. Что она старая-престарая, гораздо старше двадцати, а старой вовсе не выглядит, оттого что сидит в большой стеклянной банке, в какой-то летучей крепости, куда не пускают никого. Короче, вроде наместницы, воплощение зла.
Вот они встретились. С нашей стороны трое, где Нир был третьим; с их стороны тоже трое. Она прислушивалась, но слышала только отдельные фразы на понячьем, которого толком не выучила, да и те приглушённые. Ветер шумел. Ещё недавно она попробовала бы подкрасться поближе, но раз уж Арики так просила, не стоит. Они просто стояли, всей штабной ротой, напротив смотрящих с другой стороны поля пони в чёрной-пречёрной броне.
Она приметила того, с черепом на метке, который всё ловил её оптикой. Показала язык. Тот, чуть помявшись, показал тоже.
А у меня длиннее, а у меня длиннее!
— Джин, ну и задница же ты.
Ага, задница. Зато с длинным гибким языком! Кто-то из понях чиркнул по горлу копытом, и Кумо показал ему тоже, что делает копыто, когда связать из цветастой верёвки петельку и через неё пропустить. Поняхи загудели.
— Ребята, магазины нахуй! Гранаты отстегнуть!
Послышались щелчки. С другой стороны тоже. А она, сжав зубы, смотрела на уже готовых ломануться на них понях. Сейчас будет больно. Сейчас будет страшно. Потому что мы маленькие, а они большие. Вот что Кумо без автомата сделает с тем бычарой, который его на голову выше и на два копыта шире в плечах? Подпрыгнет? Лягнётся?.. А тот будет бить и бить, пока не захрустят кости, а если захочет, то так ударит, что как тыква расколется голова.
Это нечестно, когда цветные сильнее. Старше, больше. Чище пьют, сытнее едят!
Одинокая окапи вышла перед строем.
— Тето! — зашипела Арики, — Нахрен убью!
Та глубоко вдохнула.
— Эй, кто из вас самая крепкая задница?! Голыми копытами разъебу!
— Ой дурная… — Квинта рядом прижимала копыто к лицу.
* * *
Поняхи — тоже рейдеры. Вот что было самым сложным и нечестным, к чему никак не получалось привыкнуть. Эти бычары, здоровые как бизоны зарокадных пустошей, увешанные бронёй и оружием, смотрящие свысока. Ан нет, не говно какое-то подземельное, а такие же пустынные рейдеры: вроде как честные и правильные ребята, с родителями которых торговали наши родители, и даже изредка дружили.
Её папа тоже был из таких.
В одной старой книжке они с Квинтой читали, что когда-то в мире была не просто война, а «война хорошая» и «война плохая». Хорошая, это в которой всё вроде как честно. Встретятся армии, подерутся, под ор сражающихся чемпионов чуть потыкаются копьями и побросают камни из пращ. А потом разбегаются зализывать раны: кто первый испугался, тот и проиграл.
«Плохая война», это война подлая. Это война, где слабый знает, что проиграет в «хорошей войне», но просто не может отступить. Тогда начинаются смерти, горят деревни, висят головы на шестах. Здесь, в южных пустошах, так не воевали. Слишком большой ценой давались маленькие, чтобы смотреть на их смерти, а потом на угасание племени, которое от гибели отделяла лишь неполная дюжина рождений в год. С другой стороны, пони, это признанные мастера подлости. Их не победить в плохой войне! Но и в хорошей тоже. Их же в сто раз больше! А ещё они сильней, гораздо сильней.
Была одна страна на полуострове, которую другая страна называла колонией. Одни выращивали хлопок и делали пряжу, а другие красили ткани и продавали их обратно; одни собирали чай, а другие пили его по утрам. Наконец, первые взбунтовались, но у них не было оружия против винтовок, да и вообще ничего у них не было, только молчаливый протест. Стреляйте мол, мы не будем. Стреляйте мол, мы не купим. Мы просто станем жить так, будто вас нет, а мы сами по себе. Захватчики не выстрелили. Они не были такими уж плохими. С другой стороны, будь захватчики хуже, они просто посмеялись и перебили бы всех.
Но та страна хотя бы была нужна Эквестрии. А окапи южного Хреноземья вообще нахрен никому не нужны.
— Так, слушайте сюда, ушастые, — с диким акцентом рычал цветной сержант. — Дерёмся до первой крови. Дерёмся, пока проигравший не вылетит за круг.
Ну, по крайней мере у них были правила. Правила, это ведь признак «хорошей войны»? Пока все собирались в большой круг, а старшие обговаривали условия поединка, она подошла к тому жеребцу с черепом на метке. Посмотрела снизу вверх.
— Не бегайте так, — Джина попросила. — Do not run like this…
— Чего тебе?
Оу, язык знает!
— Вы как мины расчистите, толпой бежите. А мы специально так мины ставим, чтобы вас всех миномётами накрыло. Вот ты смотришь на меня, кривляешься. А я смотрю на мертвеца.
Зачем она это сказала? Вот зачем?! Нуу… просто обидно, когда у других чушь в уставах, а самоуверенности выше крыши. Учиться не хотят. Да и этот — тоже. Только фыркнул и отвернулся, сплюнул на песок.
Жеребчики. Жеребчики везде одинаковы.
Она вернулась к Кумо и его сверчку, прилегла на траву. Круг уже расчистили, обозначили границы, а Тето стояла напротив какой-то мелкой и кривы ухмыляющейся пегаски, которая красовалась, поднимая свою огненно-рыжую гриву лёгкими взмахами крыльев. Встав на задние копыта Тето загорцевала на песку.
— Ей пиздец, — Кумо буркнул.
— Она троих таких как ты раскатает!
— А у той крылья. Тето пиздец.
Прозвучал гонг, двое рванулись. Схлестнулись в центре круга. И вдруг пегаска оказалась сверху, изогнулась, оттолкнулась — и кобылица в песчаной форме улетела за круг по высокой дуге.
— Стоп!
— Эй!.. — Джин вскочила.
Ошарашенная Тето поднималась, опираясь на жеребчика, в которого влетела; а пегаска в центре круга стояла на одном копыте, широко раскинув крылья, а гриву поднимая огненной волной.
— …Это нечестно!
Поняхи улюлюкали, стуча копытами. Жеребчики рядом сжимали зубы. Вот вышел кто-то старший из Долины озёр, которого Джин почти не знала. Снова прозвучал гонг. Разгон, оскал, два схлестнувшихся тела — и втрое больший жеребец улетает за круг, с отпечатками копыт на крупе, а пегаска хохочет, показывая белые зубы и широкий понячий язык.
— Я порву её.
Это снова Тето. У неё такие узкие, вдруг покрасневшие зрачки. Звучит гонг. Она бросается, Быстрее, гораздо быстрее! На мгновение Джин видит, как старшая окапи хватает пегаску за шею, и тут же та взмахивает крыльями. По высокой дуге они взлетают над толпой. Сцепившись, они падают, слышится хруст; а пегаска сверху; она бьёт копытами, снова машет крыльями, легко сбивая захват — и падает дальше, из разодранного носа хлещет кровь.
— Стойте! СТОП!!!
Мгновение, и Джин уже рядом. Второе, и открывает аптечку. А Тето встаёт. Чёртова дура вообще не чувствует боли, а задняя нога у неё вывернута, волочится по земле. Ширнулась! Дважды ширнулась — нет, трижды. Ещё и чем-то понячим, от чего вообще непонятно что давать. Нормализующие. Пока что только нормализующие — укол для сердца, чтобы не откинулась прямо здесь.
Она вырывается! Да так, что четверо жеребцов едва могут удержать. А пегаска с другой стороны хнычет, прижимая копытами к морде наполовину откушенный нос.
Охуеть как повоевали, просто охуеть.
* * *
Как только Тето, лёжа в объятиях сестры, чуть успокоилась, Джина прощупала ей ногу и наконец-то смогла облегчённо вздохнуть. Вывих, всего лишь вывих. Одним плавным движением она вправила кость, наложила шину. С вывихами ей приходилось встречаться так часто, что уже и бросила считать.
Краем взгляда она наблюдала, как понячий санитар — рогатая такая синегривка — латает свою пегаску: в облачке сияния держа хирургические иглы, и одновременно вливая ей в рот большую зелёную бутыль. Лечебное зелье. Раньше их доставляли ящиками, так что хватало на всех; но в этих песках лечилки так быстро портятся, что хоть в свинец заливай.
Так что прости, подруга, настоящее лекарства — для серьёзных ранений, а не для тупых кобыл.
— Это наши первые начали?
Её спросили. Сухой кобылий голос с акцентом прозвучал позади.
О да, она могла бы много чего ответить: и кто начал войну; и кто первым продался злым немёртвым звёздам; и кто бомбил их деревни насмерть, снова и снова, так что немногие выжившие жались к ущельям среди этих сухих, скалистых гор. Но она ответила кратко.
— Это я первой начала насмехаться. А что?
Показалось копыто в чёрной броне, на котором висела понячья аптечка первой помощи. Хорошая, годная аптечка, лучше чем у них самих. Джин забрала её всю, спрятала в рюкзак. Затем всё таки вытащила ампулу с одним из двух своих лечебных зелий и сделала Тето укол.
Это всегда такое дикое зрелище, смотреть, как мускулы под кожей напрягаются, шевелясь как выводок червей, а затем срастаются. Время для тела оборачивается вспять. И вдруг стало интересно, что если каждые несколько минут пить по одному лечебному зелью, можно ли так жить вечно? По-настоящему вечно, снова и снова реконструируя ткани до того состояния, в каком они были несколько минут назад.
— Можно спросить, — Джин обратилась. — Полторы сотни лечилок в день, это очень дорого? В смысле, в производстве? Можно ли построить большой завод, чтобы они были дешёвыми как ньюка-кола? Просто… они помогают. Если бы нам везли целые танкеры этих лечилок, мы бы их покупали, и никому не пришлось бы умирать.
— Хватило бы и полусотни.
— А?
Джин оглянулась, разглядывая высокую кобылу. Та стояла без шлема, но по-прежнему в своей скорпионьей анклавовской броне. У неё были белые-белые, ломкие на вид волосы, а в уголках глаз сеть тонких морщин.
— …Полусотни доз достаточно, чтобы продлить жизнь на фоне хронической лучевой болезни. Но я не знаю способа, каким производство можно было бы до газировки удешевить.
— Всё ты знаешь, — Джин буркнула.
Вот она, например, знала, что патронов на складах как грязи. Что есть подземные цистерны, где до сих пор хранится пересыпанное какими-то хитрыми взвесями дизельное топливо. Что были раньше две империи, которые клепали винтовки как детские игрушки, а жар-бомбы пекли как пирожки.
— Извини, Льдинка, — Джин прижала копыто к лицу. — Я просто всегда лезу в задницу. Нир мне о тебе расказывал, а меня Джина-алугви зовут.
Вот и познакомились. И вовсе не такой уж страшной оказалась эта кобыла, которая люто материла Нира по рации, а он ей с не меньшей яростью отвечал. Пони, вообще, такие создания, что под них нельзя прогибаться; выебут и не заметят; а если поставить перед фактом: что, мол, или публичные переговоры, или без переговоров, то как миленькие прилетят.
Только камеру у неё забрали. Всё снимали старшие: с одной стороны столичные, с другой стороны цветные; а мокрые от пота штабные крыски уже ставили и помост, и столики с микрофонами, пока их цветастые недруги с ненавистью оглядывались, нарезая вокруг лагеря круги.
— А ты на него не похожа, — Джин призналась. — Если что, я давно подглядела, как Нир красит гриву. Это только он думает, что мы не знаем, что он наполовину пони. Я тоже из таких.
Старшая кобыла подняла её мордочку копытом. Ощупала шею. Холодно заглянула в глаза. А вот фигу тебе — вовсе не страшно! Будь ты хоть трижды бабушкой Нира, и хоть сто раз той, кто приказывала своим жечь наши деревни — не страшно, и всё тут. У тебя, вон, тоже в глазах обида. На тех ползунов, которые вдруг восстали; которые взяли и бросили в клетку; откуда пришлось смотреть, как среди земных растут выебанные земными пегаски, а затем рождают нечистокровных детей.
И нет больше Анклава. Кончился Анклав. Осталась только Эквестрия, где крылатые вынуждены жить среди грязнокровного скота.
— Вы не в ту сторону воюете, — Джина шепнула. — Давайте объединимся! Давайте просто скажем им, что не будем сражаться, вместе возьмём Ошенсайд и заживём как захотим.
Ну серьёзно, почему бы и нет? Неожиданный, но закономерный союз. Да и там, негодяям из большой понячьей империи, будет проще разом перебить всех проблемных, чем терпеть их заморочки, ухаживать и кормить.
— А может остров завоюем? Отвоюем у тех же Атоли! Будем есть водоросли, мидий и тех креветок, которые так любит Квинта. А если не найдётся острова, можно будет собрать весь наш флот и сделать огромную платформу с поплавками. Мы ведь умеем, у нас есть заводы, есть станки…
Только если всё так просто, почему этого не сделали раньше? Это только кажется, что в мире море незанятой земли. Везде кто-то живёт, и этот кто-то живёт под кем-то большим и сильным, а большие и сильные не любят пиратов в нейтральных водах. Вот, те же Атоли, однажды плюнули и наняли грифонов — перебили почти всех.
А ещё эта пегаска. Смотрит на неё как на букашку на земле.
— Мы не такие плохие, — Джина поднялась. — Ну и что, если мы продаём своих в рабство? А что бы вы сделали, если зебры купят одного жеребчика, чтобы он работал снаружи, а он потом вырастит еды для двоих?.. Я знаю, что бы вы сделали. Вы бы отобрали еду! А вот хрен вам, мы не убиваем своих по указке цветных! Мы просто живём общинами. Племя — всё. Один жеребёнок — ничто.
Джина сжала зубы. Это — ложь. Она не верила в то, чему учат других. Но у неё не было иных оправданий. Наверняка всё можно было бы сделать лучше, умнее, добрее. Но не сделали: не захотели, не смогли.
— Твой отец тоже был беглецом из Анклава? — Льдинка спросила.
— А? Нет, просто рейдером. Очень хорошим. Я плохо его помню, я маленькой была.
Она стояла, подняв взгляд на старшую кобылу, и просто не находила, что ещё сказать. Та не отвечала. Крылатая смотрела, словно те старшие зебры с Работного рынка, которые щупали её, кололи иголками, заставляли сдавать тесты, а потом оценили в пять искр и отвернулись. Мол, всё равно никто не купит — так и делай что хочешь. Дружи там, спи вон на лежанке, ходи на уроки; можешь даже поработать, тогда монетку дадим.
А потом ещё удивляются, отчего ребята подожгли город. Равнодушие даже хуже, чем большой хуй в задницу и в зубы метлу.
* * *
Дипломатия, это скучно. Только взгляните на них: сидят такие, в парадных мундирах с золотыми воротниками, лыбятся то на камеру — не сломалась ли, развалюха? — то одни на других. И болтают, то на понячьем, неловко коверкая сокращения, то по-зебрински, путаясь в падежах. Это всё от нервов. Это оттого что все они белозубо скалятся, а сами только и хотят негодяев хуями покрыть.
Когда всё закончится, придут скучные техники из столичных, сделают свою нарезку выступления, а поняхи свою. Что не нравится, вырежут, что понравится, может даже и повторят. И будут смотреть, довольные, одни с большого проектора в Школе дружбы, а другие в кинотеатре Работного рынка — и вообще-то всем будет похуй: одни придут туда только за воздушной кукурузой, а другие за бесплатной палочкой жареных сверчков.
— Хотите, я ей нос подправлю? — Джина вновь смотрела на пегаса с черепом на метке. — Я умею. Я читала о пластической хирургии и сама правила несколько рваных носов и ушей.
Тот смотрел свысока.
— Ну, это лучше сделать сейчас, чтобы хрящ сросся правильно. Потом заново придётся ломать. Ваш командир дала мне аптечку для подруги, я хочу отплатить.
Вышла их санитарка, спрашивая по-понячьи, что, мол, это за жеребёнок такой потрёпанный и чего он хочет? Да сама ты жеребёнок! Зашить даже толком не умеешь! Рог из жопы, иглы дрожат. Короче — поругались, и ругались до тех пор, пока не явился Нир, лично зашивать кривоносую пегаску, которая до сих пор то плакала, то просила зеркальце, то вышибала его из копыт.
Какие мы неженки. Тьфу.
Она вернулась к Тето и всё ей высказала. И что эта дура не стоила даже того, чтобы марать копыта. И что тырить медикаменты из сумки Нира, это последнее дело. И что можно было бы просто попросить, и она сама бы дала такую бодягу, что из пегаски бы говно в перьях посыпалось. И вообще, пошли ужинать уже.
Ужин на всех готовили Штабные крысы. То есть Арики, Квинта, и ещё полдюжины мелких кобылок, которые пока не удостоились того, чтобы по именам называть. Но со своим подай-принеси они отлично справлялись, и только Арики как всегда беспокоилась, расхаживая перед большим прицепом с походным котлом. Это сложно, знаете ли, приготовить ячменный плов, чтобы был вкуснее рисового. Чтобы мелкие суповые сверчки казались кусочками особенно нежного овоща, а дольки печёного ямса напитались пряностями и таяли во рту.
Поняхам понравилось. Ещё бы им не понравилась, когда они специально отбирали самый чистый ямс и самых-самых сочных сверчков, на которых дозиметр даже не пикает. Лишь бы неженки не просрались. Вот видите, мы заботимся о врагах! Если бы все противники заботились друг о друге, то плохие войны бы закончились — да и «хорошие» тоже: ведь на того, рядом с кем уже год как бегаешь по дюнам, как-то и не хочется оружие направлять.
Если что, то за драки их не сильно наказывали, а за направленный ствол — очень сурово. Чтобы как инстинкт было — видишь пегаса в чёрном, махни копытом, оружие опусти. Ну и с той стороны тоже. Такая вот странная подготовка к войне.
— Не понимаю… — Тето рядом клевала носом. — Честно, вообще не понимаю, что я должна делать, а что не должна. Защитить честь наших? Честь ведь для папы самое важное. Или никого не ранить, как он просил. Избить эту сучью недотрогу, которая нас убивает? А почему тогда он сам её не изобьёт? Почему все ей подлизывают, а никто не слушается меня?
Ну, блин, сложные у неё вопросы. Смотришь на эту кобылицу, смотришь, а у неё в глазах то мириады звёздочек преданности, когда любимый рядом; то это смущённое непонимание, а затем и вовсе апатия, когда остаётся одна. Словно взяли большую пушистую собаку и запихнули под шкурку маленькой окапи. А потом ещё Арики показывает тот учебник, по которому их Нир воспитывал. Который так и называется: «Дрессировка и натаска охотничьих легавых собак».
Хороший, кстати, учебник. Это очень благородно и правильно, когда младших воспитывают по учебнику, а не просто по наитию: не делая страшных ошибок, не причиняя лишней боли — и превращая в достойных окапи из племени Карии-атеки. Каждая из которых может погибнуть, но племя должно уцелеть.
Джин протянула подруге сахарок.
— А, спасибо большое, — та захрумкала. — Я должна извиниться перед той пегаской?
— Нет, не должна.
Извиняться перед пегаской. Хрр-тьфу! Всегда у них с Арики такое: с одной стороны Школа дружбы, где суровые Черри вбивают в головы, что мол, все разные, но все должны жить дружно; а с другой стороны отец с его военными заморочками и собственными хотелками, который так натянет, что под хвостом болит. А Тето потом признаётся, что ей просто хочется жить правильно и достойно, но она не совсем понимает, как работает разное у всех «правильно», да и «достойно», это как?
Может, когда приятно, да и друзьям хорошо?..
* * *
За один день переговоры не закончились, так что они укладывались спать прямо здесь же, поставив большую взводную палатку среди пшеничного поля и чирикающих вокруг лагеря сторожевых сверчков.
Джин долго смотрела на огни лагеря цветных по другую сторону речушки. Пересыхающей такой, не то что столичная, больше похожей на ручей. Она пряталась в кустах акации с биноклем, но тот пегас с черепом на метке всё равно как-то умудрялся её распознать. Лыбился, ухмылялся, показывал копытом — а потом наставлял на неё отсоединённый от винтовки оптический прицел.
Это нечестно. Как ему это удаётся?! Это пиздец как нечестно. В ответ она показывала ему язык.
— Джин?
— Как этот гадёныш меня находит, Нир? Это что, магия? Я слышала, у них какая-то хрень есть, которая ЛУМом называется, вроде как смотришь на экран, а там всех впереди видно. И ещё другая хрень, которая называется ЗУМом, или вроде того. Она время останавливает. Поэтому они на стрельбище нас обходят каждый раз.
— Не поэтому.
Жеребец поднял её, пересадив к себе на спину. Дал кусочек сахару, обёрнутый во вкусный мятный листок. Шею гривой почесал. Она обняла его тоже, прижимаясь разом и мордочкой о холку, и копытами о живот. Приятно же? Приятно! Кумо подрос, но и она тоже, так что любимый жеребчик отказывался таскать её на себе. Другие — тем более: особенно в племени, где две кобылки на одного жеребца.
— Давай меняться? — Нир заговорил, обернувшись к ней мордой. — Тето незаметно влюбилась в твоего жеребчика, поделишься с ней? А я буду твоим.
— Аа?!
Джин оцепенела.
— Но… это же неправда.
— Правда. Мне виднее, — жеребец потрепал ей ухо, а затем принялся объяснять.
Мол, любовь, подлая сука, и создающий её моноаминовый всплеск длится не дольше четырёх лет. Ровно того времени, которого в дикой природе достаточно на воспитания жеребёнка, после чего кобыла ищет нового партнёра, а старого старается избегать. Петелька становится суше, секс болезненнее, и удовольствия уже никому не доставляет, а мелкие подлые твари по имени «гены» зубоскалят изнутри.
— …Зная об этом, в Эквестрии я обучал дочерей слепой безоглядной верности. Но это верность мне, а не народу. Я боюсь, погибнув, утянуть их за собой.
Она обняла его крепче. Болтает, значит грустно. Вот она сама, например, делала подлости; Квинта замыкалась; Арики уходила в работу, а Тето пинала и пинала боксёрскую грушу с прицепленными крылышками, пока песок не полетит.
— Не получается? — Джин спросила.
— Ага. Говоришь с ними, говоришь, а в умах стена. Мы всё за всех знаем. Мы не ошибаемся. Мы сильнее, а значит мы правые, а вы будете жить по-нашему, хотите вы того, или нет. Стало быть умрёте до последнего, как бедные сайгаки. Слишком уродливые, чтобы хоть кто-то пожалел.
Сайгаки, это которые со смешными носами хоботком? Ага, так и оказалось. Нир был ходячей энциклопедией вымерших народов. Сохранить хоть что-то, сохранить хоть как-то — только об этом от него и услышишь. А личность, что личность, она как вспышка в ночи. Которая увидит свет, загребёт себе побольше личного счастья, да и угаснет, становясь ещё одной плиткой на ведущей к лучшему будущему дороге для своих.
— …Это игра с вероятностями, Джина, где только большие числа решают. Народ в полсотни тысяч, в нашем мире, это граница вымирания, которая лишь раз в столетие рождает гениев, равных мне. Десять миллионов — сила. Единственная доступная нам сила, которой мы должны как можно скорее достичь. Но не ценой счастья. Несчастная жизнь не стоит того, чтобы жить.
Он потёрся носом ей о лицо.
— Так что, Джин, махнёмся любимыми?
…
— Ну, не знаю…
Разве так, вообще, можно? Взять и перелюбить. Взять и по указке полюбить. Она спросила, и жеребец ответил: «Да, теперь можно». Быстрым шагом он нёс её к палатке, где уже поджидали все.
Большие как блюдца глаза Тето, вот что их встретило, когда они показались внутри. Высокая окапи подошла, осторожно взяла её за шкирку, стянула со старшего жеребца. Хлестнула по носу хвостом. Когда Нир подозвал настороженного Кумо, и взяв его сверчка на копыта начал говорить — Тето всхлипнула. Долго пришлось доказывать ей, что полуносая пегаска тут ни причём, что это не наказание, а всё ради её же блага.
Она не поверила. Собравшиеся вокруг ребята осуждающе заглядывали Ниру в лицо, но тот был твёрд:
— Хватит, друзья, хватит. Мы не должны ставить личное выше общего, ведь тогда не останется ни личного, ни общего, только кости на песке. Квинта, прислушайся и ты тоже. Я думаю, что нашёл решение нашей проблемы. Смотри.
Взяв свою докторскую сумку он достал жестяную коробочку из под менталок. Открыл, показал. Неровной грудой лежали маленькие таблетки, розовые такие, с оттиском улыбки на каждой из них.
— В одной дружба и терпимость. В двух нежность и глубокая, чистая любовь. В трёх — горечь за всех живых на этой земле.
Хмм… праздничные менталки? Нир так забавно смутился, когда она вспомнила это название. А потом принялся рассказывать, как уже третий год испытывает восстановленное по старому рецепту лекарство на пустынных слоупоках, добиваясь того, чтобы они выживали в естественных условиях, быстро вытесняя тех, кто доступа к менталкам не имел.
Эти большие, толстобокие создания становились умнее, доверчивее, нежнее к своим. И одновременно осторожнее. Если один погибал, другие не повторяли его ошибку. Если один обижал своих, то другие заставляли его принимать менталки, подмешивая в еду. После чего сразу же прощали. Они не мстили, а устраняли угрозы. Они не тащили себе самое вкусное, а делили пищу поровну на всех. Наконец, они помогали соседям, стравливая между собой худших и защищая тех, кто не ел других.
В конце концов они вернулись из пустыни, обчистили лабораторию с реагентами и угнали летучую лодку. Спустя три месяца из Эквестрии пришло письмо с извинениями, а потом и посылка, в которой было новое оборудование, бомба с менталками вместо тротила, и большой, украшенный ракушкой на голове глиняный слоупок.
Диверсия состоялась. Они… атаковали первыми в этой войне?
* * *
Джин лежала на ковре, смотря на баночку с полусотней таблеток. Нир приказал всем принять по одной, а когда Квинта вознегодовала, ткнул ей под нос копытом и всё высказал. И как она смеет презирать собственное счастье. И как смеет унижать других, старающихся ради неё. И как ради ничтожной гордыни губит девчонок, которые подняв уши слушают всё.
— Я?! Ты!..
Встав на дыбы, Квинта бегала по всем бешеным взглядом.
— Нет, ты! Ты показала нам, как мы ничтожны. Огромное тебе спасибо. Ну а теперь, когда мы нашли выход, время взять тебя за уши и тащить. Мы никого не оставим позади!
Он и правда взял зебру за ухо зубами. Но несильно, не больно. Крепко обнял.
— Мы все нуждаемся в воде и в пище. В общении, в безопасности, в близости и любви. В доминировании, власти, агрессии. В каждом из нас сотни потребностей. «Праздничные менталки» сделают устаревшими многие из них, зато усилят необходимые для выживания. Это чистый свет эмпатии, доступный каждому. Это кристально-ясный разум, нацеленный на сохранение жизни. Это счастье, бесплатное для всех.
Квинте вновь досталось копыто, прижатое к носу. Суровый-суровый взгляд.
— Трусить перед этим — позорно. Выбирай, ты с нами как равная, или будешь смотреть со стороны?
Она слизнула таблетку. Сглотнула. Показала пустой язык.
— Доволен?! — нос шмыгнул, слёзы выступили из-под квинтиных очков.
— Да просто счастлив! Мы их уделаем. Мы будем обаятельными, умными, внимательными. И они тоже, боясь нам уступить. Подсядут как миленькие, начиная с дипломатов и армии, и заканчивая стариками из парламента. С таким-то всплеском эмпатии они наконец-то прислушаются к нам, а мы сможем их по-настоящему простить.
Джин поморщилась. Вот любил Нир всё идеализировать, страшно любил. Хватался то за одно, то за другое — и чуть что получалось, уходил просто в жеребячий улёт. А между тем, мама учила её не трогать наркотики. Врачу — не положено, даже если очень хочется. Да и ребята из банды Горелых не раз подтверждали, какая же, дракон забери, это здравая мысль: укурятся до полусмерти, а ей потом откачивать, садя самых опиздошенных на цепь.
Она объяснила это товарищам. И отмахнулась, когда Нир горделиво указал на себя. Наварил — пробуй. Мир был бы лучше, если бы каждый горе-химик сначала сам пробовал всё, что другим наварил. Попробовал. Одну. Вторую. И даже третью. После чего подтянулись и самые настороженные ребята, и даже Кумо согласился, когда его домашний сверчок пожевал таблетку, чирикнул, но выплёвывать не стал.
— Дай угадаю, — Квинта хлюпала носом. — Теперь мы все перетрахаемся без резинок, наделаем племени кучу жеребят…
— Более того. Я синтезировал несколько довоенных противовирусных, у которых был указан занятный побочный эффект. После одних из них у окапи всегда рождаются двойни, а регулируя дозу другого можно выбрать, кого рожать, жеребчиков или кобыл. Наконец, третий работает как фильтр, давая быстрый и безболезненный выкидыш нежизнеспособного плода.
— Ааа…
— В столице я нашёл вирусный вектор с необходимыми генами, которые спасают зебра-капи от бесплодности. Это проблема была надёжно и безопасно решена. Полагаю, что наши потомки решат и проблему пони-капи, ценой чего будет всего лишь несколько десятилетий ожидания и несколько миллионов рабочих часов.
Квинта упала, прижимая разом оба передних копыта к лицу. Она как-то раз уже высказала Ниру, что, мол, ты начисто, просто в край ебанутый. Причём — на размножении! «Будто есть в мире что-то более важное», — он тогда возразил. Вот пчёлки тыкаются, цветочки тыкаются, сверчки тыкаются — а мы глаза завязали: ничего не видим, ничего не знаем, сидим в своём мертвячнике, и всё больше скатываемся к дикости, где остаётся только боль.
Или, хуже того, учимся у единственного толкового жеребца в племени, становимся умнее, получаем права и оружие, и уже вовсе не хотим рожать. Это ведь так низко, так унизительно — быть жертвой, плодящей новых жертв. И, безусловно, это так.
— Квинта. В нашу первую встречу ты говорила, что хочешь власти. Нет более достойной власти, чем власть над собственным телом, разумом и душой.
— Мне что, вторую съесть?!
— Хм… увлёкся, извини.
Джин сбегала за фотиком и щёлкнула это редкое зрелище. Стоят такие, друг напротив друга, и оба дёргают ушами, оба прижимают копыто к лицу. А лица пыльные, оттого что копыта не мытые: сухая белая приречная глина оставляет разводы на лбах.
— Я просто хочу нормальную семью, — Квинта вдруг сказала. — Ну, знаешь, зебра-папа, зебра-мама, трое маленьких зебрят.
— Расовые заморочки?
— Кто бы говорил!
Они убрали копыта от морд. Встретились взглядами. Кивнули друг другу. Да с таким видом, будто взгляд вдруг стал ясным-ясным, честным-честным, и передающим всё куда вернее слов. Квинта сбегала к своему рюкзаку и вдруг вытащила дневник, который никому не показывала, и даже ненавистных жеребчиков очень просила не трогать его.
Там были рисунки. Маленькая зебра с мамой, маленькая зебра с отцом — тоннели и снова тоннели рокадных бункеров, в которых Квинта находила что-то красивое, чего Джин никогда не могла понять. Но было и побережье, и фиговые пальмы, и даже домик, который выглядел как дверь бункера и холм с маленьким круглым окном. Рисовала Квинта не очень, но теперь просто показывала всем дневник и рассказывала, как сильно хочет большего. Более близкого. Более родного. Более своего. Не быть одной из сотни писечек чужого племени, а построить с любимым своей расы свой собственный дом.
— Нуу… извини тогда, — попросил прощения один жеребчик, который не извинялся никогда и ни перед кем.
Квинта приняла извинения, а потом извинилась тоже. За то что учит плохому, за то что не помогает, а только ест свой обед. Кто-то другой заплакал рядом, когда перед ним тоже извинились; а потом и другой, оглядывая всех вокруг взглядом больших как блюдца глазищ. Маленькую Люф долго утешали, когда она призналась, как же ненавидит это всё. Ниру тоже высказали, что с ним просто блядь страшно: оттого что такой здоровый, пристаёт к младшим, пользуясь своим авторитетом, а на мнение старших хуй ложил.
— Бери от жизни всё, — он напомнил.
— И от нас тоже?! — Квинта разозлилась.
— Вам мало того, что можете тыкать стволами во всё, что не нравится? Что выросли сильными, дружными и храбрыми? Что способны любого хищника нахуй послать?..
Кто-то прижал копыто к морде, кто-то фыркнул, кто-то зевнул. Но вот Арики рассказала пару историй о тётушке Черри из Школы дружбы, которая вроде и добрая: и слабого поддержит, и на плохого наорёт. Но сделать так, чтобы плохой поддержал слабого, хуй там, обломается. Вместо этого поставит большой штамп на бумаге, а после школы негодный жеребчик вдруг обнаружит, что у него один путь, в армию: служить на границы южного Хреноземья, где за один год платят как за четыре, а потом, отхаркиваясь кровью, помирать в двадцать пять.
Спор был жарким, особенно когда Квинта снова высказала своё. Но Арики с Ниром — умные, они умеют убеждать. И что львы нужны овечкам, и что овечки львам; и даже овечки с пулемётами могут вдруг обнаружить, что их стадо ведёт лев в овечьей шкуре, а под шкурой льва, если хорошенько дёрнуть, вдруг окажется испуганный черношёрстый баран. А затем всех хорошенько торкнет, и уже не важно будет, кто там лев, а кто овечка — все поднимутся над этой животной хренью. Ну а пока мы звери, почему бы и не трахать жеребят?..
Наконец, сверчковый Кумо сплюнул, да и притащил карту завтрашних учений. Развернул на столе. Смущённая Тето принесла фишки, разъярённая Квинта фломастеры. Послав к драконам львов с овечками все принялись чертить.
* * *
Всю ночь Джин смотрела, как ребята работают. Чертят, чертят, чертят — пути подхода, пути отхода. Чтобы если пони взбесятся, так ударить, что мало не покажется. А если не будут беситься, то ненароком кого-нибудь не зашибить. Кто-то приунывал, чуть ли не плача, насколько мы слабее, но ему давали очередную менталку, и уныние сменялось новой вспышкой ярости в глазах.
Джин считала. На бумажке она отслеживала, кому и сколько менталок достаётся. Она сказала «хватит», когда часы показали полночь, но нет — не прислушались. Второе «хватит!» она повторила в час, третье в два. Но когда очередной жеребчик пришёл к ней уже за четвёртой по счёту менталкой, просто дала по копытам.
— Всё! Кумо, отставить! Кумо, нельзя!
— Да не бойся ты так, — Нир вмешался. — там нет риска передозировки. От них сильная психологическая зависимость, но депрессии не будет, если применять регулярно. Это должно стать такой же естественной потребностью, как пища или вода.
Мог бы и помочь, наркоман упоротый! Она спрятала связку коробочек под себя, накрылась плащом, отвернулась. Всё, хватит, больше нельзя! Спать идите! Потом сами спасибо скажете, когда отходняк ебанёт.
И он ебанул. Оу, как он ебанул, как только наступило утро. Ошалевшие, большеглазые жеребята слегли пластами: никому ничего не хотелось, только плакаться перед испуганным сверчком, за всё то ужасное, что сотворили с природой. И перед зеброй, за то что сотворили с ней; и даже перед ней самой, за то что отворачивались от изрезанной шрамами морды; а Нир и вовсе клялся всё исправить, как только у батальона будет хоть сколько-то свободных средств.
— А теперь представьте, как вас эти менталки выебали бы, начни вы недельный заход.
— Слоупоки были в порядке.
— Да потому что они слоупоки, дракон забери! — Джин уже орала, обтирая влажной тряпочкой лица друзей.
— Плевать. Мы не в том положении, чтобы выбирать средства. С этим жить можно. Можно жить лучше, добрее, мудрее, а в будущем создадут и новые рецепты менталок. Это вопрос жалких миллионов, или пусть даже миллиардов рабочих часов.
Лады. Вот сделают — приходите. А пока берите пример с Квинты, которая только одну съела, и уже проплакалась, начинает помогать. И всё равно нехорошо ей, нерадостно: то на сверчка смотрит, бормоча что-то о бедных и заброшенных, которые кормили и оберегали всех; то у Нира спрашивает, как сильно его обижали в детстве, а когда тот отмахивается, мол, вовсе не обижали, сам всех обижал, Квинта не верит и ещё больше грустит.
Ёбаные экспериментаторы: даже от кошачьей дури был легче отход. Наконец, заглянула Льдинка, и Джин ей всё объяснила. Что всё, звездец, сегодня учений не будет — упоролись. А отойдут непонятно когда. Дальше они откачивали товарищей совместно с санитаркой из понячьей роты, которая и слов-то толком не понимала, так что пегасу с черепом на метке приходилось всё переводить.
Когда все наконец-то уснули, Джин просто растянулась снаружи, подняв копыта к глубокому безоблачному небу. Чирикали сверчки, напевали зяблики, Солнце уходило за горизонт.
— Как думаешь, кто из вас после Нира самые способные? — это Льдинка спросила, пристроившись рядом.
Такая странная особа. Она лежала, закинув копыта за голову, и даже не снимая свой силовой доспех.
— Да все мы, вроде как, лучшие. Кто совсем дурной, те в тыловой роте, кто поумнее, те в роте связи. В боевых ротах старшие, они совсем дубины. А в штабе — лучшие из лучших. Ну, какие есть.
С Льдинкой было неожиданно приятно говорить. Она всегда молчала, но в отличии от такой тихони, как Тето, спокойно отвечала на взгляд. А глаза такие глубокие-глубокие, как ночного океана холодная мгла. Страшная она, очень страшная — гораздо страшнее, чем младшие пони. Вроде как те могут ударить, а могут и не ударить, а эта бить не будет, просто сделает хрусть и шею к хвосту повернёт.
— …Нир пробовал гонять нас по военному. В шесть побудка, в семь пробежка, в десять в постель. Так себе получилось. Ребята не выдерживают, срываются на сверчках. Хреновые из нас вояки. Не думаю, что кто-то здесь в вашу военную академию вообще бы поступил.
— Я слышала, наместница убила твоих друзей.
— О да, — Джин ухмыльнулась. — Хорошо, что эта мразь уже помирает. Представляю, как она там ползает, отпаиваясь бочками лечебных зелий. Как её режут снова и снова, выбрасывая в вёдра чёрные комки. Как скоро она облысеет? Как скоро лишится кожи на морде, ушей, ног? Когда прекратит? Вот шутка судьбы — гулю не место у власти, а власть она любит, очень любит. Как думаешь, выйдет у нас безногий обрубок гуля, или же сдохнет совсем?..
Льдинка поднялась, натянула шлем.
— Извини, если прозвучало грубо. Не принимай на свой счёт.
— Да нет, я узнала, что хотела. Добрых снов.
Приятная, вежливая пони. Совсем не та, что материла Нира по рации. Вот бы все были такие! Вежливо бы пришли, вежливо бы познакомились. Угостили бы вкусным эпплвильским яблоком, а увидев, как мы тут живём, отозвали бы своих смертников от границы — они-то в чём так провинились? — и просто, дискорд их забери, дали бы всем право селиться в лугах и жить так, как нравится им.
Это что, так сложно, разрешить общинам собственные законы? Ну и что, если где-то там насилуют жеребят — пусть себе насилуют. Ну и что, если кто-то там упарывается? Да и хрен с ним, вдруг и правда упарываться лучше, чем не упарываться. А если кто-то с кем-то воюет, ну, ёпт, бывает и такое, что одни в сердцах убивают других.
Свобода же, дух Пустоши, все дела.
Пожалуй, было бы одно единственное, что она бы запретила. Рабство. Если жеребёнку хреново, на это есть волшебное слово «отъебись». А дальше плащ, дорога, тёплое Солнце на небе и дикие кукурузные початки, которые ничуть не хуже тех, что растут на полях.
Но что делать, если жеребёнок упоротый? Если его режут на части, а ему заебись. Что делать, если в войне нет ни капли рыцарства, а только обман, цепи и опустевшие дома. Кто-то становится сильнее, затем давит тех, кто послабже, а чтобы новые не поднялись, — объявляет Закон. Закон един для всех. Закон справедлив. Он гласит: «Слуги Императора достойны жизни». Закон суров: «Жизнь только для Императора и его слуг».
И вот, поздравляю, теперь у вас есть Император, который насилует непокорных жеребят. Который смотрит своим всевидящим взглядом из каждой камеры улиц и площадей. Который пустил свои щупальца вам в жилище, спальню, кошелёк. Который может отличить вас от миллиона других по тексту в полторы тысячи слов, по лицу, походке, мышлению. И раздавит, конечно же. А вы бы на его месте не давили в зародыше каждого потенциального врага?
Может, Пустошь не такое уж говно?
* * *
С одной стороны ужаснейший Император, совсем как его наместница из столичного бункера, а с другой стороны Дух пустоши, у которого жадная до жеребячьей плоти гнилозубая пасть.
Говорят, что был путь между этими двумя мясорубками. А ещё говорят, что Новая Эквестрия, помня старые ошибки, пытается его найти. Ну, и мы туда же. Нир всё возился со своими Праздничными Менталками, пытаясь их от чего-то там очистить, чтобы и отход был лёгкий, и торкало зашибись; а Льдинка тянула на себе все переговоры и организацию учений с обеих сторон.
У старшей пегаски даже стало что-то получаться. Мэр Ошенсайда ушла, успокоившись, а через пару дней из города стали слетаться местные жеребята. Они кружили и кружили над полем на своих фанерных планёрах, щёлкали фотоаппаратами, просили потрогать танки. Зебры из соседнего батальона слали их нахрен, но по крайней мере один единственный танк им трогать никто не запрещал. Ага, их собственный командирский танк.
Квинта даже фоткалась в своей водительской шапочке, в окружении удивлённых цветастых лиц.
Все быстро привыкли, что по лагерю штабной роты ходит неприметная пони в доспехах, которая подсаживается к разным жеребятам, расспрашивая обо всём. «Так будем город брать?» — у неё спрашивали. — «Будем, но потом», — отвечала Льдинка, забавно шевеля скорпионьим хвостом доспехов, и вежливо отстраняя тех жеребчиков, кто слишком досаждал.
Были стрельбы. Были манёвры танков по пустыне. Была и совместная с гулями Старого Ошенсайда артиллерийская подготовка, которая огневым валом дошла до очерчивающей границу Эквестрии реки. И вдруг, в один прекрасный день, обещанное «потом» состоялось.
— Эмм… ещё раз. Мы входим в город, а пони уходят? — Квинта охреневала, глядя на горделивого Нира большими как блюдца глазами. — Без взрывов. Без резни. Без стрельбы?
— А зачем? Они знают, что разъебут нас, потеряв с полтысячи пегасов. Мы знаем, что снесём Ошенсайд до основания, если до такого дойдёт. У нас есть жар-бомбы. У них мегаспелы. Нам всем есть что терять.
Кажется, это называлось миротворческой миссией. Вот приехали к гулям Старого Ошенсайда артиллерийские снаряды, и те очень хотят ими воспользоваться. Что их остановит? Мегаспелы? Хуй там. Родные окапи на улицах соседнего городка. Мэр которого ворчит, пыхтит, краснеет мордой, но признаёт, что загнали в угол. Танки-то рядом, а Новый Кантерлот далеко.
— Джин, да улыбнись же наконец! Первый шаг сделан! Скоро, очень скоро мы вернёмся с инженерной техникой. Мы будем строить Новый Кладж у излучины большой, красивой реки.
Ей казалось раньше, что она видела счастливого Нира. Неа, не видела. Он гладил радостно стрекочущих сверчков и таскал на себе улыбающуюся до ушей Тето. Он бросил наконец-то свои проклятые менталки, и просто рассказывал им об Эквестрии по вечерам. Рассказывал о цветных, среди которых есть и старики, по уши умывшиеся кровью; и совсем мелкие жеребята, которым стоящие у власти старшие уж точно не желают зла. Рассказывал о том, что драться с местными можно и нужно, но того, кто будет тыкать заряженной винтовкой, он лично до полусмерти уебёт.
— А что, если они выстрелят в нас? — спросил Кумо. — Если станут стрелять с воздуха? Если это будут не местные, а прилетевшие с другого края страны пегасы? Если изобьют насмерть, просто потому что могут и хотят?
Ёбаный кайфолом.
…
— Поэтому вы всегда и повсюду будете ходить вместе с ребятами Льдинки. Спать вместе с ними, есть из одного котла. Провокации будут, это я вам обещаю. Но первый выстрел предоставьте им.
Что же, было чертовски страшно, когда они с друзьями возвращались к танку, чтобы снять его с прицепа. Ещё страшнее, когда батальон миновал вторую рокаду, и травянистая пустошь вокруг вдруг сменилась на каналы ирригации и тянущиеся по обе стороны от автострады пшеничные поля.
Они миновали селение. Огромное, больше самого Кладжа, где на крышах сидели сотни разглядывающих танки цветных, а затем и второе, где колонна ненадолго застопорилась, когда вооружённая толпа попыталась её остановить. Но выстрелов не было — не успели. Пегасы в чёрных доспехах раскатали их в единственное мгновение, просто пройдя над толпой так низко, что скорпионьи хвосты сдёргивали шляпы, а крылья били по ушам.
В самом городе, где их встретила набережная белых лодок и ярко-белёных шестиэтажек, уже никто не мешал. Им дали целое здание, полное больших общих комнат, откуда, как видно, совсем недавно выселили жильцов. Им дали и площадь, чтобы поставить машины, где с одной стороны виднелись вереницы дощатых амбаров, а с другой стороны два высоких арчатых крана строили верфь.
Это напоминало столицу. Только без бункеров, без рабских татуировок, без трущоб.
Дни сливались, было непросто. Чтобы выйти за стены батальонного лагеря, нужно было получить сразу два разрешения, и пару-другую мрачных пегасов, которые смотрели так люто, будто здесь не окапи, а пустынные гули, которые ходят по улицам их родного городка. Чтобы поговорить с местными, нужно было… да лучше и не пытаться. Джин очень долго вымывала из гривы тот липкий, мерзко пахнущий помидор.
— Да что с ними не так? Всё же так хорошо начиналось?! — она трясла Нира уже через дюжину дней.
— О нас пишут газеты. А что пишут, можешь прочесть, но лучше не читай.
Она читать не стала. Всё равно по-понячьи не умеет. Квинта, вон, прочитала, и потом отворачивалась, пряча заплаканные глаза. Никто не выходил из лагеря, так что и драк не было, только толпа местных за воротами, и мелкие подлые пегасы, которые летали с полными корзинами тухлых помидоров над головой. Плац вонял как помойка. Они пытались его почистить, как только заходило Солнце, но на следующий день грязь приносили вновь.
Наконец, спустя две недели после прибытия в город, зашевелилась эквестрийская армия. Выглядывая из окон они видели корабли на горизонте. Один, второй, третий и пятый — и шестой, особенно огромный, который щетинился орудиями словно настоящий линкор. А на востоке, с другой стороны невеликого города, всё небо клубилось чёрными буревыми тучами. Огромные металлические конструкции показывались в облаках.
— Нам конец, — бормотал сжимавший своего сверчка Кумо, — Нам конец.
— Ну, с честью уйти, это тоже искусство. Прецедент создан. По машинам, друзья.
Нир приказал это на пятнадцатый день, когда Солнце уже клонилось к закату, касаясь стоящих на рейде кораблей. Все страшно спешили. Сама Джина потеряла подаренную Льдинкой аптечку, которая так и осталась где-то на батальонном медпункте, Квинта свой шлем, а Арики, позор на её голову, — всю униформу. Хорошо хоть догадалась влезть в запасной комбинезон одного из льдинкиных бойцов.
Кто-то заварил замок на выездных воротах, и они попросту снесли створки танком, кто-то встречался на пути, и они просто отшвыривали их с дороги, хватая зубами за крылья, и бешеными взглядами зыркая в глаза. Выстрелов не было. Один ведь не считается?.. Тот жеребчик держал револьвер в зубах, а увидев выныривающий из темноты танк, наверняка сам до икоты пересрал.
Тето обезоружила его мгновенно. Они с Ниром шли впереди колонны, не доверяя драки с местными уже никому. Если толпа не отступала, следом шёл наскоро оснащённый бульдозером танк. Квинта тихо дрожала на месте механика-водителя, но масса машины делала своё дело: наскоро собранные из бетонных блоков и арматурин баррикады складывались как карточные дома.
Улица армейского городка; набережная белёных шестиэтажек; снова улица дощатых амбаров и пустых рыночных рядов — и они вырвались. Новый Ошенсайд остался позади.
* * *
Никто не стрелял им вслед, никто не преследовал. Были только пегасы: сотни и сотни крылатых, чьи силуэты закрывали ночное небо. Они кружили огромным водоворотом, выкрикивали что-то сливающееся на своём певучем языке. В бинокль Джина видела у некоторых из них винтовки, но эти летели в их крылатой буре самым нижним слоем, сдерживая остальных. Пушки танкового взвода смотрели на удаляющийся городок.
— Мы облажались, — бормотала Квинта. — Но в чём мы облажались? Что мы сделали не так?..
Она не знала, что ответить, а устроившийся на броне Нир просто часто и глубоко дышал. Джина осмотрела его. Не ранен ведь? Не ранен?! Нет, только тот блеск в глазах, как у Тето во время драки с пегаской, и трущее морду копыто, из-за которого выглядывали сузившиеся до точек зрачки.
Без помех они миновали первое селение, и второе. Мост через реку. Границу необжитых холмов. Пегасы отстали, когда небо осветилось прожекторами, а зенитные установки второго батальона подняли многоствольные стволы. Вместе с зебрами они отступали дальше, вдоль границы Старого Ошенсайда, мимо воющих вдоль дороги одичавших гулей и покрытых настороженными сверчками пустынных дюн. Яркий полумесяц освещал заранее размеченный танковый путь.
— Мы… победили? — всё оглядывалась Квинта. — Мы возвращаемся домой?
— Да, мой нежный цветок пустыни, мы победили. Скоро мы будем праздновать этот день, как день воссоединения народов. День, когда полосатые рейдеры провели хуём по нежной понячьей писечке, а когда та испугалась, потрепали за ушком, да и оставили недоумевать.
Ну, вообще-то это выглядело так, будто они драпают, роняя кирпичи.
— Мы возвращаемся домой. Дипломатия за Льдинкой и Наместницей, но и нам с вами тоже многое предстоит сделать. Первое — праздничные менталки. Мы сделаем их лучше. Мы сделаем счастье доступным для всех. Второе — восполнение племени. Я вижу теперь, что работа растянется на многие годы, Новый Кладж на реке мы увидим уже глубокими стариками. Поэтому наши дети должны жить. Думаю, менталки нам здорово помогут. Наконец, третье, мы не должны терять единство и силу. Без помощи псов с их туннелями и кошачьей отвлекающей атаки близ Хуффингтона, операция «Ошенсайд» не состоялась бы никогда.
Тяжело дышит. Нехорошо.
— Арики, останови колонну. Нужно сделать перекличку. Нир, Тето, пошли в медпункт.
Она стащила их с брони, цепляя зубами за солёную, насквозь промокшую униформу. Осторожно подталкивая повела. Было очень страшно, что кого-то потеряли, что кого-то оставили позади, но когда они добрались до машины с алым знаком медпункта, перекличка уже закончилась. Ранений не было, все нашлись на своих местах.
— Джин, выслушай. Главная цель Льдинки в том, чтобы вытащить своих пегасов из ловушки этой мертвящей пустыни. С ней можно сотрудничать. Верных она не предаёт. Второй нашей целью было показать Эквестрии, насколько же её нынешняя армия нерасторопна. Их единственный батальон специального назначения надорвался бы против механизированной пехоты, резервисты не были готовы, а авиация ничего не могла сделать, пока нас прикрывали толпы запертого в городе мирняка. Мы теперь на передовицах мировых новостей. И да, старуху Айс Бриз выслушают, а её реформы армии по образцу Анклава примут, хотят они того или нет.
Как же всё у них сложно. Слишком сложно! Мама как-то раз говорила, что в политике, наоборот, всё очень просто: слабых ебут, сильные крепчают — а сложности городят только слабые, и не от большого ума.
— Кроме того, Джина…
— Слушай, мы справимся. Тебе нужно поспать.
— Хорошо.
Она уложила их с Тето на большом надувном матрасе. Том самом, который сначала с ней и Квинтой, а потом и в фургончике медпункта, проделал долгий-долгий путь. Успокаивающее друзья принимать не захотели, но и кот с ними, она и не ждала.
— Присоединишься? — Тето вдруг предложила.
К морде внезапно прилило кровью. Нет, просто нет! Джин выбежала за дверь.
Тихо она возвращалась к танку, вдоль стоящей с потушенными огнями колонны. Вот чуть забеспокоился сторожевой сверчок: из под песка показалась парочка совсем уж древних пустынных гулей. В балаклавах, в шлемах, почти совсем слепых. Что поделать, она подошла, позволила себя обнюхать. Своя мол, своя, уже столько надышалась, что и восьми лет не пройдёт, как буду с вами. Поэтому отстаньте, пожалуйста, не сокращайте и без того мимолётную жизнь.
— Город на берегу в той стороне, — она указала. — Вам совсем недалеко осталось.
Не понимаете? Ладно. Вууу! Копытом правым, копытом левым — вон туда, куда показываю, и говорю понятное всем «Вууу!» А это «вууу!» значит красивые закаты, набережную и столики, большой кинотеатр и много новых друзей. Так яснее? Вроде яснее. По крайней мере отстали, и уже не оглядываясь на колонну дальше побрели.
— Джина!
Оу, Тето. Растрёпанная бежит.
— Уже оттрахал?
— Слушай, я согласна! Забирай, если вы так друг другу нравитесь. Я всё понимаю. Вы оба пони-окапи. Вы роднее, ближе друг к другу. А мы с сестрой просто приёмыши. Мы даже никогда не узнаем, кто из рейдеров наш настоящий отец.
А вообще, классный был бы отец. Если бы не пичкал штабных крысок менталками, не грузил бы охуительными историями и не насиловал бы жеребят. Вот её отец, например, был супер-классный. Разве что убивать любил. Рейдеров там — нехороших — работорговцев, грязнопони каких-то в силовых доспехах, какие уже и не водятся теперь.
Наверное, они были вроде сайгаков. Слишком уродливые, чтобы хоть кто-то пожалел.
— Джина, ты, вообще, меня слушаешь?!
— А? — она мотнула головой. — Слушай, а мы правда в Ошенсайде никого не убили? Вообще никого?..
— Ну, вроде, даже никого и не ранили.
Вообще ошалеть. Провели танки в город мирового гегемона, просидели там полмесяца, под тихое охреневание всех мировых СМИ. А потом показали им хвостиком. И никого не убили. Вообще никого. Если бывает война хорошая и война плохая, то это тогда что? Идеальная война? Единственная достойная война?..
А они поймут, чего нам это стоило? После всего, что они с нами творили. Вспомнят? Захотят понять?.. Нет, конечно же, всем похуй на слезинки слабых. Но резко становится не похуй, когда проводят хуями по морде. И вот уже скоро рассвет, на восточном побережье встаёт Солнце, а большая белая пони удивлённо таращит глаза.
— ВОЗДУХ!
Свист. Огненные линии — струи бьющих в небо трасс. И вдруг удар, падение: Тето сверху, прижавшая её к земле. Взрыв в небе, и тут же следующий, грохот на земле. Эта плотная волна, вдруг ударившая по ушам, отрезавшая все звуки и оставившая только тонкий, пронзительный писк.
Джин видела, как что-то горит, оставляя всполохи, как проносятся рядом пехотинцы боевых рот. Как грузовики сходят с дороги, а танки выбрасывают из дымогенераторов густые, плотные облака. Она пыталась подняться — место санитара на медпункте! — но жёстко ухватив за холку Тето потащила её прочь.
Из безлистых, колючих кустов они видели рассеивающуюся по пустыни колонну. Пуск пары зенитных ракет, и единственную точку на дороге, которую поперёк пересекали кратеры, разметав довоенную насыпь. Обломки разбросало повсюду, догорало топливо попавшего под удар бомб заправщика и медицинского грузовика.
Звуки вернулись.
— …Слушай, Джин, всё хорошо. Всё в порядке, — говорила Тето. — Ты должна будешь опознать тело. Ты скажешь всем, что это он. А мы должны уходить, здесь нельзя оставаться. У них уйма планирующих бомб.
— Аа?
Она прижала копыта к ушам, пытаясь проморгаться. Кобылица с узкими как точки зрачками смотрела в лицо.
— Всё будет хорошо. Когда будет нужно, он отдаст приказ… через меня. Я следила за тобой. Ты точно не предатель. Не ты им выдала, что у нас есть ракеты. Не ты раскрыла, что мы пойдём здесь. Не ты подсветила цель лазером.
— Сколько… менталок ты съела?
Тето двинула губами, будто пытаясь подсчитать. Затем мотнула головой.
— Мы не тронем предателя. Благодаря нему батальон в безопасности. Мы возвращаемся домой.
Все вокруг шумели, все расходились в боевой порядок. Джин слышала, как Кумо через танковую рацию орёт приказы, а Арики с громкоговорителем передаёт команды отставшим бойцам. Взлетела осветительная ракета, перекрывая своим белым светом всполохи пламени. Пустыня была полна закутанных в песчаные плащи и блестящих оптикой фигур.
У них были погибшие. Были раненые. Нир погиб.